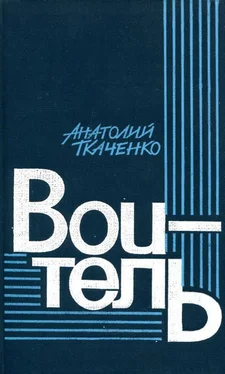Он все это говорил Ходоку, тот понимающе кивал и советовал обзавестись женой — найти тихую, работящую, способную рожать детей, чтобы не опустел Седьмой Гурт — живое, красивое, может, лучшее на планете место. Они тогда не знали, что невеста, Маруся, сама придет в «лучшее место».
Наконец Матвей Гуртов привез на осле Феде крупного сайгака, желто-рыжего, с белым подгрудком, отменной породы, снял с него шкуру и хотел выделать ее, но Ходок попросил лишь соскоблить жир и мездру, сам принялся помогать и надел сыромятную, пахнущую диким зверем шкуру на голое тело; попросил зашить ее вдоль живота, по разрезу. Глянули гуртовики — ужаснулись. Матвей горько помотал бородой, Верунья в страхе перекрестилась, Леня-пастух глупо расхохотался. И было отчего: из лохматой шкуры сайгака-самца торчала не менее лохматая человечья голова, конечности — в кожаных ичигах ступни, обтянутые кожаными рукавицами кисти рук. Ребристые витые рога Ходок прикрепил к шкуре на затылке. «Ничего, — сказал, — что будут не на лбу — важен символ». И еще попросил пришить к животу сумочку для еды. «Стану немножко сумчатым», — пошутил.
Уже вечерело, Верунья собрала ужин, Ходок наскоро поел, попил чаю, вымолвив, что теперь придется перейти на воду из речки Гурт, положил в сумочку сухарей, пшеничного зерна, пожал каждому руку (Верунья до сих пор говорит: «Рука холодная, колченогая, копытцем…») и заспешил в степь, позволив Лене проводить себя лишь до плотины. Едва не заплакал Леня, увидев, как Ходок, приноравливаясь к шкуре, то пробовал бежать, то падал на четвереньки, то отдыхал, сидя столбиком, напоминая издали большого сурка у норы.
Несколько дней его никто не видел, а потом Леня погнал свою отару к сайгачьему водопою. В саксауловом буераке, где он пережидал полдневную жару, уже не надеясь встретить Ходока, тот сам подошел к нему, да так неслышно, что Леня вздрогнул: всякая чудь, миражи, видения мечутся в горячей степи. Не поздоровался Ходок, не подал руки, чуть поодаль упал на бок головой в тень, сказал хрипло и прерывисто:
— Прости… духом твоим боюсь заразиться.
Он похудел и еще больше ссутулился, шкура на нем заскорузла, стиснула его панцирем, но он к ней, видимо, вполне приспособился, только сидеть по-человечьи не мог, да это его мало печалило: ведь сайгаки сидеть не умеют. Ранее свежие, зорко-внимательные глаза его потускнели, дико закровавились, утонули в набухших веках. Костистые ноги и руки на зное и ветре начали обрастать рыжими волосами. Ходок показал свое жилище — саксауловые ветки в саксауловом низеньком шалашике, больше напоминавшем лежку зверя. Но был он все-таки человеком, и Леня-пастух сказал:
— Брось, а? Помрешь от истощения.
— От жира тоже помирают, — спокойно прохрипел Ходок и, выкатив глаза, почти как раньше, возбужденно заговорил: — Леня, они меня уже принимают. В степь не берут, а на водопое не гонят. Особенно самочки. Я ближе к ним держусь. Беда — вожак очень умный и злой. Чует во мне человека, присматривается, следит. Я заигрался с одной самочкой, такой ласковой, волоокой, по имени Катюша — это я назвал ее, — и вдруг от удара перевернулся, хотел подняться на четвереньки, но вожак опять сшиб меня рогами и покатил к реке, а течение знаешь какое — расшибет о камни. И тут, Леня, стадо сгрудилось вокруг меня (старые самки, правда, стояли поодаль, сердито и любопытно наблюдали), оттеснило вожака, он ударил одного-другого, вспрыгнул на бугор — свой обычный пост, — и зеленая травяная пена свесилась с его морды бородой. Я спрятался в саксаульник, отлежался. Это было позавчера. А сегодня уже свободно прыгал в стаде, терся носом о сайгачьи морды, потом вот что придумал: в буераке есть маленькая лужайка зеленого овсюга, я нарвал пучок этой лакомой травы и незаметно подсунул вожаку; получилось так: вроде и не я его угостил, но это как-то связано со мной. Вожак обнюхал меня, потерся горбатым рылом о мое ухо, намекая: нельзя ли еще сотворить такое чудо? Я сотворил, незаметно сбегав на лужайку. И вожак разрешил мне держаться около него, отогнал даже двух молодых самцов, возревновавших меня к хозяину стада. Я играл с Катей, нарочно припадая на нее, — вожак терпел, умно и вроде со смешком поглядывая: ты все-таки не сайгак, твоя шкура не пахнет живым сайгаком; ты кормишь меня сладкой травой, но тебе чего-то нужно от сайгаков; буду следить; возьму тебя в степь… Понимаешь, Леня, — Ходок выпучил глаза, они у него засинели от возбуждения, — вожак пригласил меня в степь! Напилось стадо воды, начало подниматься на увал, и он давай меня слегка подталкивать носом: мол, давай, пошли. Я запрыгал впереди, километра четыре шел со стадом, до солончаков, а потом оно сгрудилось, загудело копытами по твердой земле и в несколько минут исчезло, будто вознеслось вместе с соленым облаком. Я вернулся к речке.
Читать дальше