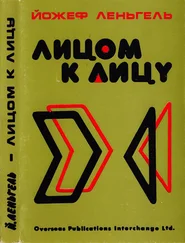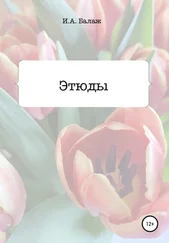Я выжидал. Субъект, должно быть, смотрел в соседнюю комнату. Вот он поднялся на цыпочки, потом торопливо шагнул, и сапоги исчезли. Скорей за письмо!
Я вновь ухватил его пальцами, без особых усилий поднес ко рту и хотел откусить. Не вышло. Бумага была плотной и твердой. А-ах, зачем я не послушал жену! Ведь предлагала же она не мудрить, обойтись обычной писчей бумагой, достаточно тонкой и экономной в том смысле, что займет меньше места в кармане у делегата. Я же настаивал на своем. Столь важный исторический документ, решительно сказал я, на чем попало писать нельзя. Нужна бумага высшего сорта. Но поскольку в доме у нас такой бумаги не оказалось, я утром потратил еще полчаса, пока в одном из табачных киосков не обнаружил того, что надо. Бумага была действительно первосортная, белоснежная, плотная, но, увы, несъедобная.
И вот, накопив побольше слюны, я хорошенько смочил письмо, откусил от него и начал жевать. Сразу же поранил язык. Жевать перестал. Но продолжал держать бумагу во рту, дожидаясь, пока она совершенно размокнет. И тут ощутил ее вкус: смесь плесени и чернил. В то же мгновение желудок отреагировал: я вновь почувствовал тошноту. Если меня сейчас вырвет, ни кусочка письма мне в рот уж не взять. Я сделал попытку размышлять о другом. Я заставлял себя думать, как плыву в летний день на яхте по Балатону. Ветерок, долетающий с берега, приносит запах цветущей липы. Когда скроется берег, я сброшу плавки и с головой уйду в воду.
Но то были слова, которые я беззвучно произносил, вообразить же эту несравненную благодать с тошнотворной бумагой во рту не мог. Мелькнула мысль о жене и о матери. Который час? Они уже, наверно, тревожатся. Но взглянуть на часы я тоже не мог, циферблат был закрыт запястьем правой руки, наложенным на запястье левой. И тут я впервые подумал о Тиборе и его спутниках, сидевших в машине. Подумал с надеждой, что они не ждали меня ни единой лишней минуты и что не их сейчас истязают в соседней комнате.
Бумага тем временем размягчилась, вкусовых ощущений почему-то не вызывала, и желудок вел себя мирно. После минуты жевания она превратилась в вязкий кашеобразный комок. Но комок был велик и просто-напросто застрял в горле, когда я попытался его проглотить. Тогда я раскусил его пополам, одну часть запихнул, как хомяк, за щеку, а вторую опять попробовал проглотить. Но и в этот раз горло дало осечку. Затем новое глотательное движение — и снова позыв на рвоту.
Я отказался от дальнейших усилий и проклял всех романистов на свете, и Дюма, и Эдгара Уоллеса. Сами они, черт подери, никогда не пытались питаться бумагой, иначе бы не понуждали своих героев, доведя их до гибельной ситуации, жевать и глотать опасные документы.
Держать во рту эту гадость мне уже было невмоготу. Один за другим я выплюнул оба комка, сразу почувствовал облегчение и теперь уже знал, как действовать дальше. Следующий кусок я жевал, сознавая, что глотать его не придется, и бумага тотчас утратила отвратительный вкус. Я откусывал, жевал, размягчал, скатывал языком, снова жевал и, превратив в кашеобразный комок, уверенно сплевывал.
За считанные минуты я изжевал половину письма. Возможно, ночью меня засекут и на рассвете повесят, но пока что перехитрил их я. Еще минута-другая — и никакого письма не будет. Только изжеванные ошметки. Если их обнаружат, то, пожалуй, не усомнятся, что в квартире водятся мыши. И вдруг осложнение, совсем непредвиденное: во рту у меня иссякла слюна. Откусив еще кусочек письма, я работал челюстями энергично, но тщетно. В горле пересохло несколько раньше, но я не придал этому значения и вот дождался того, что пересохла вся полость рта и язык высох так, что стал даже шершавым. Я шарил им под нижней десной, отыскивая слюнные железы, нашел наконец, надавил языком — труд напрасный: сухость, а вместе с нею и жажда усиливались.
Я взглянул на нетронутую половину письма: нет, текста много, оставить нельзя. Значит, надо набраться терпения, ждать, копить силы, слюну. Субъект в сапогах со шнуровкой не возвращался. Это также не предвещало добра. Он и вышел, наверное, неспроста. Возможно, настала пора выводить. В соседней комнате громкий говор, нет ни криков, ни стонов… Но что толку гадать! Лучше счетом заняться, счет на нервы действует благотворно. И вот, досчитав до трехсот, я во рту почувствовал влажность. Слюна. Слюна! — и рванул зубами письмо. Все в порядке. Пошло. Я жевал и выплевывал. Еще и еще. Я спешил — ведь проделана лишь половина работы — и сплевывал не сероватую, неузнаваемо раскрошенную массу, а просто изжеванные клочья бумаги. Под конец я и вовсе выплевывал не жуя, ибо услышал звук хлопнувшей двери. А это могло означать одно: кого-то уже увели.
Читать дальше