Чувствуя близкую свободу, парень рвался, орал. Его тащили, пинали. Утаскивали и безжизненного дядьку. Новоселов кулаком отшибал уже налетавших, которых становилось все больше и больше, которые брали в кольцо, забегали вперед, отрезая путь, оскаливались ножами, как волки, всё не решаясь по-настоящему напасть. Новоселов метался с ножом наизготовку. Пугал. Не подпускал к своим. Толкал, чуть не тащил дружину вперед, к воротам, понимая: если остановятся – конец. В свою очередь, дружина словно не замечала волков. Была словно бы сама по себе. Тащила по-прежнему рвущегося парня, уводила изувеченного дядьку. Как будто углубленно работали все. Засовывались в работу, как страусы в песок. Словно только от этого зависело: жить им или не жить. Коноплянкин, а потом и Юшкин получили палками по горбам. Ничего, работа. Требует она. Да. Новоселов отбивался. Уже от троих или четверых. Пролётом полоснули ножом по руке. От плеча вниз. Ничего, гады, ничего! Работа! Новоселов поддел кулаком одного и тут же второго. Ничего! Еще одного достал. Работа! В разрезанной до локтя белой рубашке точно красный огонь полоскался…
Вдруг орать на танцплощадке перестали. И в аллее все остановились. И преследуемые, и шпана – в парке замелькали, завизжали мигалки. Одна, вторая, третья. Бежали милиционеры, дружинники. И всё перевернулось, всё разом стало наоборот: преследователи рванули кто куда. «A-а! Ис-пуга-ались! – чуть не плакали дружинники. – A-а! Так вам и на-адо!» На бегу шпана выкидывала ножи, кастеты. Лезла на прутья ограды парка. Многие сигали обратно на танцплощадку, чтобы смешаться с танцующими и тоже танцевать. Одного выдернули в трусах. Из-под куста. Но с брюками на руке. Еще тащили немало к машинам.
Осторожно подсаживали в газик, чтобы везти в больницу, изувеченного дядьку. Парень со связанными руками был брошен к стволу тополя. Точно безрукий, весь скукоженный, качался, гнулся к траве. Пуговичные ноздри его расширялись. «Погоди, сука. Придет и мой черед. Из-под земли тебя, гада, достанем. Погоди-и!..» С перетянутой платком рукой устало сидел на пеньке Новоселов. Молча смотрел на парня, удерживая его нож. Нож парня был выкидной. Так называемая выкидушка. Свисал с руки Новоселова чуть не до земли.
На другой день Александр Новоселов проезжал на автобусе мимо парка. Парк был пуст. Дул сильный ветер. По аллеям летала бумага, пыль, вверху, как тряпки, уносило-кидало ворон. Тополя резко клонились-кланялись, как от стыда накидывая на головы серебряные исподы листьев.
…За грудиной опять подавливало. И не за грудиной даже, а будто в пищеводе. Пищевод словно был поранен чем-то изнутри. Слипся, саднил. Покосившись на Курову, Константин Иванович сунул под язык таблетку. Вновь попытался сосредоточиться на письме… Я хоть и милиционер… но тоже человек… Да, не густо у тебя с грамотешкой, человек-милиционер… Прямо надо сказать…
Задергало вдруг форточку, привязанную за шнурок.
– Константин Иванович… – не прерывая писанину, сказала Курова.
Новоселов полез из-за стола. Подошел, потянулся, развязал шнурок. Но не захлопнул форточку. За шнурок и удерживал. Был будто при форточке. Охранником.
– Константин Иванович, разобьет ведь!.. Гроза начинается!
– Не нужно закрывать. Душновато что-то. Я подержу, не беспокойтесь. – Переворачивал во рту валидолину, по-прежнему удерживал форточку. Так удерживают хлопающийся парус. В надежде, что тот куда-нибудь вывезет. – Ничего…
Ветер задул еще сильнее. Как крестьяне перед помещиком, деревья внизу неуклюже зараскачивались, закланялись вразнобой. Голубей носило, кидало, будто косые листья. Полетели сверху первые сосулины дождя. И – хлынуло. Константин Иванович смотрел в непроглядную стену дождя, потирал потихоньку грудь. На улице разом потемнело. И только автомобилишки мчались по асфальту искристые, как мокрицы. В морозный от валидола рот стремился озон.
Ночью луна лезла в облака словно в разгром, словно в побоище. Константин Иванович лежал на кровати у окна очень живой, точно весь облепленный дрожащими аппликациями. Потом за окном наступило ночное безвременье – час, полтора между ночью и утром. Которое ощущалось большой черной ямой, где все неподвижно, где воздуха нет – удушен. Катал во рту таблетки. Уже распластанный. Как рыбина. Конечно, клялся, что уж бо-ольше ни в жизнь! ни одной! (Сигареты, понятное дело.)
Добротные закладывала храпы Даниловна в соседней комнате. Хозяйка квартиры. За семьдесят старухе, ест на ночь от души – и хоть бы что. Храпит себе!.. Не-ет, всё-о. Завязал. Пачку вот… докурю… и амба!.. Где спички-то, черт подери? Куда засунул опять?
Читать дальше
![Владимир Шапко Лаковый «икарус» [litres] обложка книги](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-cover.webp)


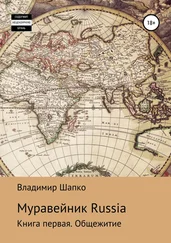

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




