Однако через час, уже в доме Никульковых, с готовностью вскакивал под крики «горько», целовал невесту, как куклу. (У невесты, как у куклы, когда ее наклонишь, западали глаза.) Почти ничего не пил, крутил только на столе парчовый фужер за ножку. Обнявшиеся два свата тыкались лбами. «Я дал ему всё!» – говорил Офицер. Гороховый лоб дяди Гриши был крепче: «Нет, я дал ему всё! Не спорь!» И опять, как полгода назад, сидели за столом две сестры и, словно не видя, не слыша ничего вокруг, нескончаемо, печально-радостно смотрели на Серова своими голубыми глазами в начерненных длинных ресницах, как невиноватыми ночными бабочками, одинаково взяв лица свои в ладони… Трезвейший круглоголовый дядя Никульковой в перерывах между своими удивительными познавательными рефератиками соседям и короткими, очень экономными улыбками им же… вдруг вставал и трескуче резко шарахал пьяных экзальтирующей фотовспышкой. И пьяные в изумлении отвешивали рты, затем поправляли галстуки, думая, что сейчас вылетит птичка…
При прощании друзья совали в Серова большие застенчивые кулаки. Как будто тренеры бокса они. Норовили в скулу. Молоток. Держись. А мы за тебя горой. Ты знаешь. От выпитого все были красноносы…
Глубокой ночью, после мучительного, жалеющего, жестокого совокупления никакой крови на простыне не было. Евгения копалась, испуганно искала под собой, рядом, включив лампу.
Лежал безучастно, голый, закинув руки на затылок. «Ты что же, думаешь, что я…» Серов молчал. «О чем ты думаешь?!» – «Не об этом! Успокойся!» Серов опять будто впервые увидел эту растерянную деваху в белой рубашке. Вскочил. По-прежнему голый, не стесняясь этого, курил в форточку. Луна безобразно курила вместе с Серовым. Потом надел леопардовые трусы, пошел в столовую, чтобы добыть спиртного.
Через неделю ему не без ехидства была сунута какая-то бумажка. Справка. Не понял сперва. Прочел… И в который раз уже не узнавал в этой молодой, самодовольно покачивающейся женщине с засунутыми в карманы халата руками… свою жену… «И не стыдно?.. На стену вон повесь. Чтоб видели. Под стекло. Как диплом…»
Гордящаяся собой Никулькова сворачивала справку.
Потом сняла халат, стала одеваться. Для улицы. Для института. Мелькали груди. Как будто назревшие рожки оленихи. Как опиленные. Панты. «Не смотри», – спокойно, гордо было сказано Серову. «Так отвернись! Или уйди! Или – некуда?..» Чуть не плача, зажав груди, как растерзанную капусту, Евгения ринулась в спальню. «Дурак!» Серов возмутился: «не смотри», хм, «дурак»!
В трамвае ёжился на сиденье, смотрел в окно. «Мы купим тебе шапку», – сказала Никулькова, белопушистая вся, прижимающаяся к Серову, как кошка. Серов внимательно посмотрел. «Кто это мы?..» Снова отвернулся к окну. За окном на морозе завыплясывал козлик-революционер на пьедестале. Тоже, видать, проняло беднягу. На Серове была шапка с ушками. Кожаная. Тонкая. Засаленная. Опорок не опорок. Не поймешь.
Медовый месяц явно не задавался. В нищенской своей одежонке Серов мерз на борзом ветру. Это перед институтом. А в самом институте, в перерывах, ходил, точно боясь встретить Никулькову. Да и вообще кого-нибудь из знакомых. Чуть что нырял в курилку, единясь там с дымом в темном углу. Или вообще убуривал по коридору. С Офицеровым пиджаком, будто с распахнутой уборной с огорода. «Серов, ты куда?» – «Сейчас». Жена тоже искала мужа. Серова нигде не было. Никто не видел. На общих лекциях прокрадывался к амфитеатру, когда уже бурлил за кафедрой доцентовый кипятильник марксизма-ленинизма. «Ты где был?!» – спрашивала Евгения. «Как где?!» – очень удивлялся Серов.
6. Танцы в парке по средам и субботам
В количестве восьми человек на дежурство дружина вышла ровно в половине восьмого. Александр Новоселов во главе. Танцы еще не начались, и в парке было пустовато. Уводили малышей домой молодые мамаши. Пенсионеры сворачивали газеты. Поднимались, кряхтели и устанавливались. Как паромы для отплытия. Изредка попадались свои. Лимитчики. С тоскующими, какими-то испуганно промежуточными глазами.
Не торопясь дружинники шли. Вдоль аллеи, словно шершавые ноги слонов, стояли тополя. В двух местах вылезли из земли мордастые дубы. Возле одного из них, на детской опустевшей площадке, какой-то гражданин в майке и домашних тапочках стискивал руки, ставил себя в натужно-дикие позы. Гражданин был пьян в той степени, когда о прежней своей жизни совершенно не помнят. Он только культурист был сейчас. То в одну сторону натужится-пригнется, то уже в другую присел. Девчонки его боязливо обегали. Он про девчонок не помнил. Дружинники подошли. Окружив, смотрели. Гражданин, все так же тужась, приседал, зверски оскаливался. Мучимые жи́ловые руки его были сродни сервелату. Ы-ыык! – помогал он себе голосом. Ы-ыыык! Ы-ыыык! Полностью ожелезнённого, его подвели к скамейке. Усадили. Уходя, дружинники посмеивались. Культурист застыл. Раскрытый рот его напоминал карьер. Со скальными породами.
Читать дальше
![Владимир Шапко Лаковый «икарус» [litres] обложка книги](/books/407777/vladimir-shapko-lakovyj-ikarus-litres-cover.webp)


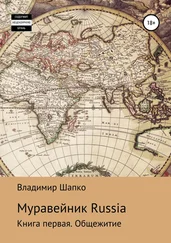

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)

![Владимир Шапко - Железный старик и Екатерина [СИ]](/books/406834/vladimir-shapko-zheleznyj-starik-i-ekaterina-si-thumb.webp)




