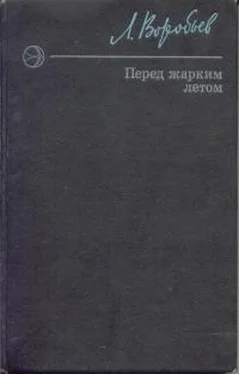— Саночки старых времен, только обивка и полость новые. Медвежья, загубили топтыгина. Чувствуешь, как тепла?
По невысказанному согласию они обходили недавний скандал. Петр Елизарович, успокаиваясь и успокаивая гостя, никак не мог нахвалиться.
— Небось и не видел таких никогда?
— Почему, а отцовы? — напомнил Косырев.
— Верно, эх, верно, — дернулся Петр Елизарович,— как мог забыть! Бывало, Калина за вожжи, а я с вами, ребятами, позади. Вымчимся на реку и по-о-ошли вдоль наезженной. Берега, да тайга, да скалы. Снег сверкает, снег слепит. Боже, когда это было...
Он утупился в полость. Потом сказал тише:
— И Лёлю, сестру твою загубленную, из Стрелецкого тоже зимой везли. Не ты, она была первейшая его любовь. Приехали, Лёлька на печке в беспамятстве, хрипит жутко. Попробуй в ледяной воде три часа. А на столе прокурор мертвый во френче. Укутали ее, вынесли в сани, а Калина Иванович — ну, гнать! Тридцать верст... Головку я горячую держал, чувствую — холодеет. Быстрее, Калина, не поспеем! Что матери, Ольге Романовне, сказать? Вспомнить невозможно, как она закричала, как закричала. Сердце бедное материнское...
Толятины руки дрогнули, ком подступил к горлу Косырева. Но он превозмог себя и сурово спросил:
— А кто убил-то, помните?
— Убил ее тот, — ответствовал Петр Елизарович, — кто девочку юную в борьбу эту сунул. Зацепило, на то божья воля.
Он снял малахай, осенился крестом. Внимательно глянул на Косырева и перекинул ноги обратно.
Жалобный писк вторгся в прошлое будто с высоты облаков. Отняв руки, Толятя натужно тянулся под полостью.
— Что тебе, Толя? — спросил Косырев.
— Ко-ок, — выдавил Толятя. — Хо-а-ить.
Косырев понял: котенок, хромает. Нашарил его под ногами, отдал Толяте. Вот кто подобрал сбежавший подарок. Бедный Павлик! Котенок зажмурился от ветра, влез за пазуху. Судьба бросала теплое тельце как хотела, но с человеком этого не должно быть, нет.
Букреевский лес вырос незаметно. Плывшее облако открывало луну, и конский бег помогал ей выйти на простор. Стало далеко видно, мелькавшие тени перемежали голубизну снега. Дорога повернула — с одной стороны двигалась стена леса, с другой бежал кустарничек. Под горой, Косырев знал, текла Ведь в ледяной коре, которую предстояло порушить в великом грохоте. Крикнула птица «дай!», еще раз — «дай!» и замолкла.
Петр Елизарович круто развернул на пригорке. Широкая крона кедра прикрывала сухую, бесснежную площадку; мощный сук из-под основания ствола тянулся вдоль земли, а потом шел вверх — к простору, к воздуху. Вокруг пахло сладкими шишками.
— Выйдем, разомнемся, — Петр Елизарович завязал вожжи на присадистом деревце. — Толятю не трог, пусть с котенком. Вот она красотища, вот Сибирь-матушка!
Опять какая-то неискренность. Но лунный свет открывал панораму богатырского размаха. За дышавшей, скрипевшей, напрягшейся рекой шла все тайга да тайга, загадочная, таинственная, плотная, как куний мех. До горизонта, куда ни глянь, и за горизонтом, и за следующим горизонтом: люди только подбирались к ней. Снова крикнула птица, призывая весну и негодуя против не ко времени выпавшего снега. Дай! Дай!
— Не остынешь? Присядем на сук-то, отсюда все видно.
Косырев сел, зажег спичку и, отгородив ладонью, прикурил. Лунный свет, пробиваясь через хвою, расчертил большеглазое лицо Петра Елизаровича мелкой линеечкой — оно было неспокойным, возбужденным. Послышался грохот подземного, подводного взрыва, река начинала тороситься. Сзади мирно дышали и всхрапывали кони.
— Ой, как мы связаны с тобой, как многим связаны...
Петр Елизарович осторожно изучал его лицо. Косырев молча затянулся.
— Хорошо, что ушел оттуда, — открыто посмотрел Петр Елизарович и счел надобным усилить: — Молодец, что убежал. Мы рады.
Косырев безмолвно курил, чувствуя, что смысл стычки мог раскрыться теперь же.
— Понимаю, опасаешься, ты меня привел. Но какое тебе дело? Хирург, от политики за сто верст. Переборщил я, сам знаю. Да и как было не переборщить... Сидит в своем доте, все ему подчинено. Ан, оказывается, не все.
Косырев повернулся:
— Но... Чего вы, в сущности, хотите?
Пропустив мгновение, Петр Елизарович положил ему руку на колено.
— Будь по-твоему. Вдруг выйдет к добру... Думаешь, Петр Елизарович вдарился в религию из рабских побуждений? Перед богом, нашим общим отцом, что ж, здесь рабства нет. Но Петр — это камень. Регент, да по влиятельности поболее.
Он упрямо выпятил кадык. Потряс пальцем.
Читать дальше