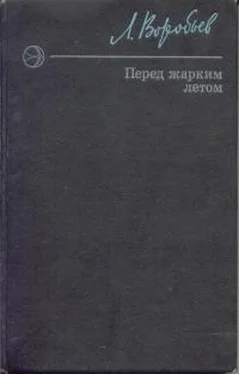Она, не видя уже ни чаек, ни яхт, улыбалась счастливым годам: и у нее было свое прошлое. А он смотрел на нее и слушал, слушал.
Иван Трофимович был настоящим художником, но скрытого, широко неизвестного труда. Реставрация ли, новое ли строят, воздвигают, — везде он надобен. Лёна не была избалована условиями, дед жил скромно, работал в общей мастерской и лишнего брать не любил. Какое лишнее, от заслуженного отказывался. Но она была избалована любовью и вниманием, чуткостью. Он все угадывал, что приносила из школы, с улицы, из семьи, все огорчения и радости. Девочка часами следила, как движутся умные руки, как они долбят, бьют, ласкают бессмысленный камень, и из него возникают узоры и вензеля, человеческие фигуры. Очень любила она и музыку, но это — совсем другое море.
И она боялась. Что будет, если, не дай бог... Хотя и страшно так говорить, он умер вовремя. Начал слепнуть. Год назад, — всего только год! — как раз в Речинске, они пошли на этюды. Он расставил мольберт, она купалась, загорала, читала. И вдруг услышала — плачет. Тихонько-тихонько. Воздуха не увидел, далей за Ведью не почувствовал, а в работе для него было все.
Голос ее прервался: «дальше не хочу...» Солнце ушло, начинало темнеть.
И решила — медицина, только. Ценность человека зрелого огромна, надо спасать людей, отодвинуть старость. Причастность Косырева к врачеванию произвела на нее сильное впечатление. Но он понял и другое. Она привыкла к постоянному общению не с ровнями, а со старшими, и теперь, невольно может быть, ждала наставления, руководства, помощи. И любви. Свободное сердце, совсем.
Он держал в ладонях ее пальцы.
Лёна остановилась проездом, поезд уходил в полночь. Заехали за вещами к подруге, Косырев подождал на улице. Под тускловатыми фонарями перрона шел разговор отъезжающих и провожающих, клубилась мошкара, угловато шныряли летучие мыши. А они отвернулись у деревянных перил. Ничего прекраснее лица с уголками следивших за ним глаз не могло быть на свете: она ждала. Шелестела крупная листва молоденьких топольков. Она повернулась, и он почувствовал ее дыхание, совсем рядом, поцеловал мягкие губы.
— Я полюблю вас, я буду вас любить, — сказал он.
— А разве вы уже не любите? — спросила она недоуменно.
В письмах не было ни «люблю», ни «целую». Были рассказы о жизни, — они продолжали знакомиться, — было предчувствие будущего и жажда встречи, которая все срывалась и откладывалась. Косырев работал с человекообразными, дело капризное и тонкое, его преследовали неудачи; она кончала школу. Он отвечал реже, чем писала она, он вообще не любил писать писем. Но было решено — преодолев сопротивление родителей, она приедет учиться в Москву,
Зимой, каникулами, с разбегу постучала в косыревскую комнату. Под пуховой шапочкой сняли чистые глаза , вытертая шубка, из которой выросла, варежки с узорами. Он увидел почти ребенка, и улыбка ее погасла. Другая, другой, другие. Пусть что угодно, пусть театр. Сидели на бесконечной «Мадам Бовари» как чужие, не видя сцены, а когда заговаривали, становилось совсем пусто. На последнем акте Косырев сбоку поймал грустную позу: пропала, ничего не могу, но ты-то, ты, взрослый человек... Он протянул бинокль, пальцы соприкоснулись, и она облегченно вздохнула.
— Какая несчастная, — сказала она. — Люди теряют друг друга и теряют себя.
Немного растеплилось. Но Лёна возвращалась домой в тот же день, с экскурсионной группой. А он, по совести, был занят больше, — гораздо больше, — своей работой, чем ею.
Урок времени, отнимающего тепло.
В конце мая он улетел в Сухуми, на совещание. Юг, море, пальмы, толпы праздных людей. Глаза бы не глядели. И особенно потому, что не удалось защитить одной важной идеи. Вернувшись в Москву, он застал телеграмму и кучу писем: одно из них в плотном официальном конверте разорвал сразу. Так и есть, ему отказывали в продолжении работ с обезьянами, с предельно ценным живым материалом. Не успел распечатать ни телеграммы, ни других писем, они были из Ленинграда, как раздался телефонный звонок.
— Боже мой! — жалобно и тоненько сказал Лёнин голос. — Звоню уже сто раз. Совсем извелась.
Он сдержанно объяснил обстоятельства, даже суховато. Лёна не обратила никакого внимания.
— Хочу вас видеть. Сейчас же. Но... со мной подруга. Она не помешает?
Прощайте, человекообразные, лаборатория и перспективный метод вращенных электродов. Снова перестраиваться. Не до свиданий, но посмотрим, что выйдет.
Лёна похудела и в темном со стоячим воротничком платье казалась постаревшей. Что-то передумала за полчаса, что-то уяснила. Разница сгладилась; несмотря на все беды, южный загар подчеркивал молодую силу Косырева. А рядом с ней... Рядом с ней была Наташа — маленькая, изящная, как цветок нарядная. Склонив голову набок, она не упустила ни детальки из их встречи. Познакомились. Лёна молчала, Косырев тоже не хотел объясняться, — на время забыть все, — и Наташа овладела разговором.
Читать дальше