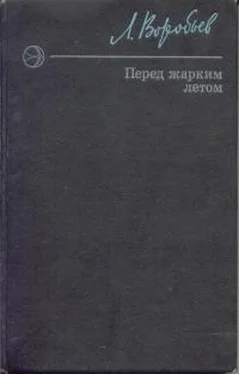О двойник, двойник! Мир наполовину еще погряз в индивидуализме, в болоте, дух Фауста копошится в извилинах мозга. Спасаясь, продавший душу отринул сребролюбие и сластолюбие, слепую веру и жажду власти, он принялся строить плотину, обуздывать стихию. Геройски! Но почему его утащили Лемуры, почему? Потому что хотел благотворить силой личной мудрости, даром таланта. За этим, — ценой ограбления других в самом драгоценном, в творческом труде, — оставалась сверхцель, гениальное возвышение, утверждение Себя. Но наша борьба и наш труд не для того, чтобы возвысить Ученых, как Производительную Силу, над Обществом Мошек.
В чем последнее преодоление? От Фауста остался труд, ничего больше. И он, Косырев, принадлежал к трудящимся, а не к поглощающим и транжирящим паразитам. Но теперь он проник дальше: радость познания есть тщета всезнания, если не служит переделке самого человека. И любовь — концентрация сил — тоже живет этой деятельностью. Иначе сожмет мертвая рука скуки.
Очень трудно — пробить последнюю скорлупу, выбросить последние остатки самозамкнутого, самооправдывающегося Я. Покончить с двойником. Но это надо — переключить себя на других, это необходимая задача человека.
Ухтомский — недооцененный.
Из высокого окна студенческого общежития, раскрытого настежь, два рояля грянули рахманиновскую польку.
Трам-ти-ра-ри-ра, ри-ра-рам...
Фантастика! Прямо посередине затанцевал, задергался пушистый зайчишка. Раз-два, раз-два-три. Спохватился, что смотрят, и за угол. Ату его, Челкаш! Ну, ей-богу, видел.
Он еле протиснулся в переполненный автобус, и сжатый телами других, ушел в неисчерпаемость, в гулкую бесконечность сознания, в размеренность осмысленного слова...
...Распахнул двери клиники. Навстречу кинулась молодая женщина в скрипящих лаковых сапожках.
— Это вы — Анатолий Калинникович! О-о. Вам звонил Сергей Сергеевич. Припомните, пожалуйста — о Струкове. Одну, одну минуточку. Я Струкова. Мой муж...
Переступая, она загораживала проход в коридор.
Из-за двери выглянула Людмила в белой косынке с маленьким вышитым крестиком. Сверкнув белками, мгновенно оценила ситуацию. Спрятала локон жестких черных волос, раздула тонкие ноздри и втерлась посередине, закрыла Косырева широкой спиной. Нагнала и затопала рядом. Обувь покупает в «Богатыре»? Волосы были стянуты назад, как рояльные струны, будто на затылке спрятан держатель. И глаза — карие, блестящие — приветливо улыбались из-под редкой челки.
— Энцефалограммы новой больной подобраны.
— Потом, потом. Сегодня ученый совет.
— Но, Анатолий Калинникович, я волнуюсь.
Он остановился, сморщил лоб: что такое?
— Ведь у нее, я не поняла сначала, разлитой арахноидит. Вы серьезно решились?
— О-о, не верите в успех? Худо. Операция в барокамере, длительная, подготовьте трех сестер. И Колосову — обязательно тоже.
— Не выйдет, Анатолий Калинникович. Она просто заболела после первой операции. Собирается бросать.
— Жалко, обязательно поговорю с ней. Очень, очень надеюсь на вас, Людмила. Постарайтесь без драматизмов.
Двинулся дальше, она рядом. Усмехнулась, приоткрыла крупные, как у породистой лошади, белые зубы. Хороший человек — Людмила. На ходу проверила волосы на затылке.
— А Черткова выздоравливает. Какие глаза у нее — синие-пресиние. Зрение улучшается, и скоро она совсем забудет о нас.
Косырев повернул за угол.
— Анатолий Калинникович...
На этот раз подстерег — и место выбрал безлюдное — Прозоров, писатель, выздоравливающий после операции. Что он там написал, Косыреву не попадалось: много их нынче, писателей. Однако глаза его — то присосками, то буравчиками — были весьма проницательные. Смуглое, длинное, некрасивое лицо; мослатые руки туго запахивали длинный халат вокруг худощавого тела. Весь готовый уловить малейшее движение, любую интонацию. Опытный взгляд Косырева заметил испарину на лбу: нетрудно догадаться, что скажет.
— Ну, — подбодрил Косырев. — Все в порядке, не так ли?
— Анатолий Калинникович... Я хочу правды.
— Какой правды, Орест Михайлович? Практически здоровы, вот правда.
— Не обманывайте, — Прозоров замялся, сдерживаясь. И вдруг взорвался: — Зачем меня держат здесь? Почему сестры, врачи отводят глаза? Да и жена завербована тоже. Я все знаю. Эти лекарства, препараты... Эти процедуры...
Впечатлителен, замучал, видно, всех. Косырев терпеливо слушал.
— Рак ведь, Анатолий Калинникович, — стараясь твердо, закончил Прозоров. — Рачок-с.
Читать дальше