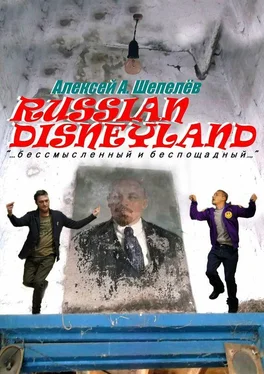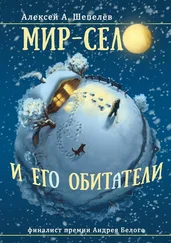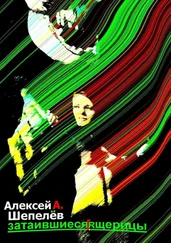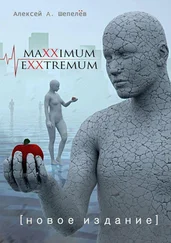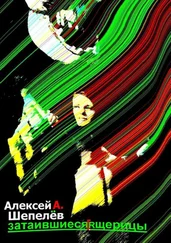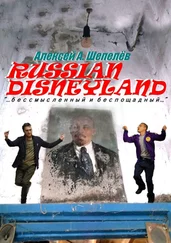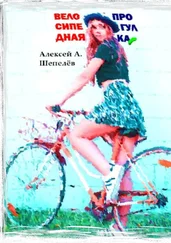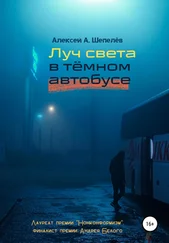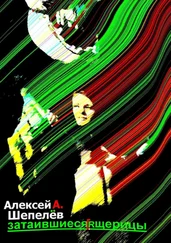Так начинается первый «Диснейленд». И ещё один пункт. То, что один из главных героев Бадор (С-ор) по национальности не является русским (или таковой лишь наполовину), и в разговорах персонажей сей факт как-то муссируется, не имеет никакого символического или политического смысла. Национальность прямо не указывается, инвективы обусловлены обычным бытовым национализмом, достаточно незлобивым и безопасным. Кроме того, сообщается, что иноземец давно обрусел. Редакторы советуют автору вообще убрать эту характеристику персонажа, но она дорога ему как память: во-первых, так было в оригинале 1993—94 гг., а во-вторых, у героя есть прототип.
На самом деле, современная деревня, сельская местность, какой я её застал (1990—2000-х гг.) является, в моём представлении, некоей «аномальной зоной». Не везде, конечно, дело обстоит именно так, но в основном необычайно обширная территория русской позднесоветской и постсоветской глубинки ввергнута в разруху и вырождение, причём довольно своеобразные и парадоксальные. Основная суть их – в урбанизме, который давно причудливо въелся как в уклад жизни, так и в склад личности селян. Объяснить всё это в двух словах человеку несведущему, то есть, хоть и допустим, не раз бывавшему в деревне, но там не жившему , практически невозможно. Здесь, может быть, уместна лишь метафора другой планеты с иной атмосферой, гравитацией и прочими законами (или довольно часто применяемая западными исследователями русской литературы аналогия с полевыми исследованиями в диких племенах), или новейшая шуточка со смыслом «А есть ли жизнь за МКАДом?». Надеюсь в будущих своих творениях прояснить этот вопрос не только гиперболо-иносказательно, как в настоящей повести, но и более привычно и адекватно, повествовательно-описательно.
Набоков есть яркий пример того мироощущения, которое в начале биографии Проханова передаётся цитатой из его романа «Дворец»: «Какое количество людей было вокруг меня – кормило, воспитывало, лелеяло! Целая рать прекрасных мужчин и женщин (причём, в контексте мысли Данилкина и мироощущения его героя, и живых, и мёртвых, т. е. славных предков. – А. Ш.) выстроилась, чтобы уберечь меня в этой жизни. У меня всегда было ощущение, что я был как бы птенец в окружении множества птиц…». У меня же наоборот имманентно чувствуется некая «безродность», возникновение самого себя не из рода, не из (или от) мира сего (нет и религии, в 90-е обрушилось хоть и слабое ощущение принадлежности к государству, к культуре), в дальнейшей жизни на чужбине не стало ни друзей, ни родственников (от которых и так отпал по мере приобщения к культуре высокой, а их к попсовой), остаётся только сон о детстве, где всё это, наверно, было, творчество, да поиски веры.
При переработке повести я окончательно убедился, что одним из важнейших этапов писательской работы является творческий кризис. Он следует за первоначальным импульсом вдохновения и его плодами. Рационализация, структурализация – это редко даётся легко, особенно когда какие-то звенья цепи (сюжета) отсутствуют. Так, я обнаружил, что целых три самых ключевых сцены в найденной рукописи отсутствуют! Первая выпала вместе с листами тетради, на вторую стоят ссылки, что она в другой тетради, которая утеряна, а о третьей вообще нельзя с уверенностью сказать, что она была написана! Тут-то я и приуныл. Но маховик творчества, разогнавшись, завихряет всё вокруг, подключает резервы бессознательного. Каково же было моё удивление, когда все эти сцены, о которых оставались только смутные представления и непередаваемые ощущения, приснились мне во сне – во всей своей неоднозначной красе и несуразных деталях.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу