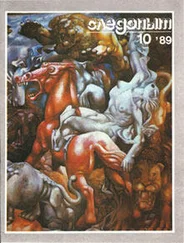Вдруг впереди Табак увидел рощу. Ту самую. С пустыми искривлёнными стволами. Взывающими к небу. «Смотри, смотри! Вся жизнь наша изломанная летит. Во, пролетела. Осталась позади. Гуляй теперь, Гена! Теперь всё у нас будет хорошо! Слышишь?» Но голова друга уже плавала. Бурая, лысая, явно стремилась упасть в проход.
Табашников тут же разбудил. Заставил пересесть на своё место у окна. Помогал, направлял. Будто вялого монстра. И друг влез-таки на его место. И сразу привалился с ладошкой к стеклу. Ну, вот и хорошо, успокоился Табак. И отхлебнул по этому поводу. Отметил переселение друга. Под укоризненным взглядом старухи через проход. «Не желаете?» – протянул бутылочку. Старуха отпрянула от фунфырика, как от чёрта.
Потом надолго задумался, загрустил. Вспоминал далёкую родину, куда вряд ли когда-нибудь приедет, вернётся. Где остались могилы матери и отца. Где сам оставил всю свою жизнь…
На переезде под вечер опять стали. На этот раз оказались вторыми. Впереди только задастая хонда. Агеев спал, Табашников – крутил головой, ничего не мог понять: на удивление Апельсин в жилете всё так же ругалась по телефону. Однако одновременно закрывала переезд. Вдруг начала крутить бандуру в обратную сторону. Поднимать железную штангу. Ошиблась перед этим, что ли?
Первая машина тронулась, переехала рельсы. Дальше всё произошло мгновенно. На машину с Табашниковым и Агеевым налетел ревущий товарный. Ударил, метров двадцать протащил и отбросил. Как игрушку с высокого полотна…
Агеев у окна погиб сразу. Табашникова вытащили из искорёженного железа. Он долго мучился, умирал. И умер в небе, в медицинском вертолёте. Живым до областной больницы не долетел.
На похоронах тестя и его дружка Валерий не был. Спрятался где-то в сараях. В одном из трёх. Потерялся.
Когда за женой заехали и увезли на кладбище – вылез из укрытия. Если точнее – из «укрывища», как сказал бы писатель, всласть поковеркавший русский язык. Пошёл варить новую беседку. Прямо перед домом.
Сидел как длинноклювый скворец на самой верхотуре железного сооружения – искры сыпались во все стороны.
Прервался, откинув шлем. Спросил у двух проходивших старух:
– Правда, красиво? Старые?
Старухи не подняли голов. Боялись только одного: не наступить, не зацепиться за раскиданные провода под током.
Валерий опустил шлем, вновь углубился в сверкание. Глаза счастливого дурака смотрели через века.