«Хонда» летела. Сигнал вопил как пляшущий Тарзан.
На Коммунистической сбрасывал ход. Опять бежал к телефонной будке. Набирая номер, уже как заклинание твердил: «По капельке, по капельке будем капать, дорогой, по капельке. Капелька точит камень… Алло! Здорово, инсультный конь!..»
В полутьме у стены слышалось тяжёлое, какое-то мешочное дыхание. Как будто Горка пытался раздуть дырявый мешок. Олимпиада напряжённо слушала, приподнявшись на локоть. Потом ложилась на спину. Месяц вяло скалился из тянущихся облаков. Словно был осатанело пьян. Мысли потекли вместе с облаками дальше. Виделась теперь Таня Тысячная. Подруга. Давняя. Ещё с работы. Теперь вот ставшая квартиранткой. С выпученными глазами рыбы, навечно некрасивая. Всегда стесняющаяся не в своей квартире. «Липа, я же ничего не знала. Разве бы я сказала ему. Прости меня, пожалуйста». Да и не сказала бы, всё равно б узнал. Сразу вспомнился муж её, Валентин Тысячный. До сих пор висит у неё иконой. Теперь прямо над моим диваном. Девственный и глупый, как Николай Второй. Однако этот «глупый» бедную Таню гнобил пять лет и из квартиры после развода выжил. Вот вам и херувимчик Николай Второй! Почему-то такие красавчики всегда женятся на некрасивых. А потом гнобят их. Ну ладно – Таня, так ведь и сейчас женился на дурнушке. Со странной фамилией – Пизикова. Посмотреть со спины – девчонка идёт. С тонкими ножками как тощенький хомуток. А обернётся – мама моя! – бабка Ёжка! А Таня всё страдает, никак не может забыть своего херувимчика. Мылась однажды с ней в бане – груди, можно сказать, как прыщи: замазать зелёнкой и не считать за орган. Бедная.
У стены Горка по-прежнему как будто пытался надуть дырявую мешковину. Взрывной глупый мужик. Как можно было такому рассказать обо всём? Вместо того, чтобы вдвоем отбиться как-то от сволоты, заявить хотя бы в милицию – встал в извечную позу мужиков. В придурочную петушиную позу. Как же – курица оказалась ему неверна. Курицу его, видите ли, топтал другой. Дурак!
Олимпиада отвернулась к окну, к бессонному свету. Месяц будто бы протрезвел. Грустил в дымном облачке вроде старого цыгана с серьгой. И всё же нужно что-то делать. Ведь так гадёныш просто загонит Горку в гроб. Видел бы он сам себя, когда плясал с трубкой у телефона. Если бы не оттащила – кончился бы там, упал, умер… Нужно что-то делать. Что-то делать. Пока не поздно…
Олимпиада задремала. Из мусорного ведра в кухне выглянул Фантызин. С большой волыной. Точно ведро захватив… «Да чёрт тебя!» – перекинулась на другой бок Олимпиада.
Утром телефон из прихожей исчез. И даже провод был оборван…
– И как теперь «сско-орую»?.. – нахмурясь, спросил Туголуков.
– Ничего. Если что, от соседей позвоним. Зато прыгать теперь с трубкой перестанешь. Нашёл с кем тягаться… – Олимпиада зло мяла тесто на столе. – Ему твои обзывания – радость. Как ты не поймёшь? Он только ими и живёт. Он же урод. С иезуитским подлым умишком. А ты рыпаешься чего-то там, пищишь…
Георгий Иванович вышел на балкон. Одной рукой вцепился в перила. В бессилии крошил пересохшую краску. Утренняя луна висела над ним как скукожившийся зародыш.
Ночью не спали. От машин ворчащая полутьма в комнате всё время менялась. Олимпиада тихо говорила: «…Никогда не забуду, как он радовался, когда увидел, как какую-то женщину сбила на дороге машина. «Смотри, смотри, шандарахнуло куклу! Ноги в небе, голова внизу!» У меня в глазах потемнело, сердце сжалось от увиденного, у него – нет: радуется, смеётся. «Смотри, смотри: не шевелится, разом откинулась!»
Туголуков лежал, смотрел в потолок и всё гнул свое:
– Почему же ты путалась с ним. С та-аким?
– Сама не знаю, Гора. Да и ведь не сразу это всё открылось мне… Прости меня, что скрывала от тебя всё…
Лежали. Молчали. Сегодняшний месяц вверху просто скалился. Как бандит.
14. Уроки разговорного языка на пишущей машинке
Туголукова была своя неплохая библиотека, которую он собирал много лет. На стеллажах вдоль длинной стены гостиной стояли и подписные издания. Все они не просто собирали пыль, но читались когда-то Георгием Ивановичем – из многих томов остались торчать бумажные чубы закладок. Кроме книг, на стеллажах лежали стопы толстых журналов, в основном московских («Новый мир», «Москва», «Октябрь» «Наш современник»), подписываясь на которые, Туголуков каждый год 30-го августа высиживал всю ночь на Главпочте среди таких же ненормальных, каким сам был в те годы.
Читать дальше




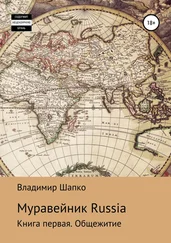

![Владимир Шапко - У подножия необъятного мира [Хроника деревенского городка] [litres]](/books/406825/vladimir-shapko-u-podnozhiya-neobyatnogo-mira-hronik-thumb.webp)





