Вспомнила, как осторожно обходила когда-то лужи, чтобы не запачкать, не замочить ног. Сейчас, не медля ни секунды, не задумываясь, за всеми прыгнула, ломая лед, в воду, сутки ходила мокрая, под ледяным ветром октября, когда кожухом топорщилась замерзшая шинель, когда, казалось, не только хрупкое девичье тело, но и внутренности, кишки все застыли, когда шинель примерзла к земле. А служба только начиналась.
Валя шла на работу. Конец октября, пахнет свежестью выпавшего снега. Чудесное утро! Тепло и тихо. Медленно, лениво тополиным пухом падают снежинки. Похрустывает тонкий ледок под ногами. Впереди показались длинные зеркала ледяных дорожек, уже раскатанных кем-то, без снега.
Валя разбежалась, прокатилась, испытывая удовольствие, на одной, на второй, на третьей. Уже подходила к крылечку больницы, как кто-то взял ее под локоть. Это был профессор Анчелевич.
– Не солидно, доктор, не солидно! Люди вам жизнь доверяют, а вы еще по ледяным дорожкам катаетесь, – говорил он с улыбкой. Валя кокетливо засмеялась, вильнула бедрами. Шеф внимательно посмотрел на нее, отпустил локоть и более холодным тоном спросил:
– Как Петухов?
Валя поняла смену его настроения, ей стало еще веселее. Легко рассмеялась. «А пусть думает, что хочет. Забавно».
– Я спросил про Петухова? – сердито повторил Анчелевич.
– Вчера было немного лучше, – уже серьезно ответила Валя.
– Как вы думаете, будет жить?
Валя удивленно посмотрела на него, пожала плечами.
– Понимаю, понимаю, никто этого еще сказать не может. Но очень хочется, чтобы выжил. Выхаживайте его, от вас многое зависит.
– Я вчера думала, может быть, кровь ему перелить?
– Повремените, такая интоксикация! Вот чуть окрепнет – подстимулируем. А сейчас жидкость, главное побольше жидкости: внутривенно, подкожно, в капельных клизмах. Промывайте его, и внимание, внимание, глаз с него не спускать!
Речь шла о больном с запущенным заворотом кишечника, поступившем в тяжелейшем состоянии. Валя попросила профессора посмотреть его, после чего в кабинете состоялся разговор:
– Рискованно оперировать, – сказал Вениамин Давыдович, – может остаться на столе. Он неоперабилен: пульс нитевидный, 140–160 ударов в минуту, кровяное давление низкое!
Валя стояла у двери, профессор по своей привычке, заложив руки за спину, ходил в раздумье по кабинету.
– Но операция – это единственное, что может его спасти. Если не оперировать, то обязательно завтра-послезавтра умрет. А тут, вдруг выживет? Ведь он надеется, что мы ему поможем, спасем его!
– У нас в клинике и так самая высокая в городе послеоперационная смертность, – остановился шеф напротив Вали, махая перед ее носом указательным пальцем, – потому что мы оперируем безнадежных больных!
– Но если из ста двое выживут, обреченных на смерть, и то стоит оперировать! Двоим сохраним жизнь! Вы же сами говорите: «Всё нужно сделать для спасения больного!» У меня не будет этого чувства, если смирюсь с неизбежностью смерти. Умрет во время операции, но мы хотя бы пытались спасти его.
– Знаете, как расценят ваш благородный поступок родственники? Они скажут, что вы «зарезали» его!
– Пусть скажут, но совесть моя будет чиста. А если просто оставлю его умирать, как посмотрю им в глаза?
– Я тоже не могу смириться с неизбежностью смерти, – снова побежал Анчелевич по кабинету. – Вот у профессора Окуловой не рискуют, нет! – сказал он, помахивая пальцем перед Валиным носом. – Зачем? В истории болезни будет написано: «Неоперабелен». Никаких забот! Их гладят по головке, самый низкий процент смертности после операций. Родным объяснят, что больной не перенес бы операцию, слишком поздно доставлен. Они это поймут. У них не будет претензий! Видите, со всех сторон хорошо!
– Но больной-то умер! А ему как хотелось жить! Вы что? Одобряете?
Шеф кинул на нее гневный взгляд.
– Если бы одобрял, стал бы я разговаривать с вами, – буркнул он сердито, и вдруг визгливо закричал: «Написал бы «Неоперабелен» – и всё!» – А сто бед – один ответ! – махнул рукой. – Мы теряем драгоценное время. Пошли мыться. Я сам буду его оперировать. Да, найдите быстренько Ксению Павловну, пусть всё бросит, будет мне помогать. Игоря Семеновича на наркоз, только быстренько все, пока я добрый! – он ожил, словно освободился от тяжелого груза, давившего на него.
И вот, больной медленно, трудно, но поправляется. Конечно, прошло четыре дня, всё еще может случиться, но со стола его сняли живым, с каждым днем растет надежда на выздоровление.
Читать дальше
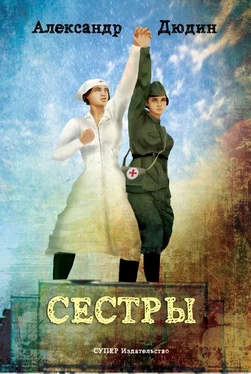



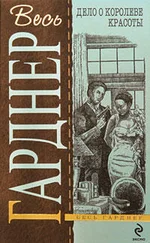
![Филип Фармер - Отвори, сестра моя [= Откройся мне, сестра моя; Отвори мне, сестра…; Брат моей сестры; Необычайное рождение]](/books/317645/filip-farmer-otvori-sestra-moya-otkrojsya-mne-s-thumb.webp)





