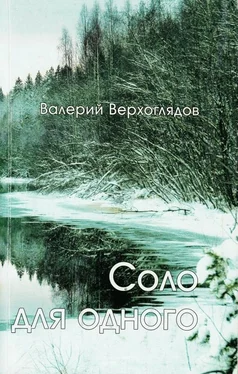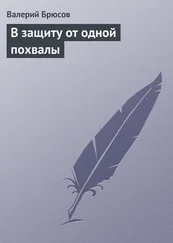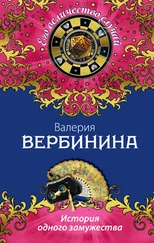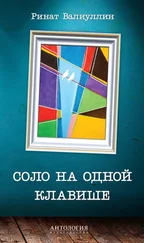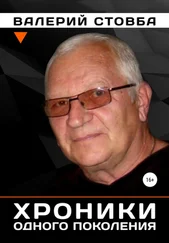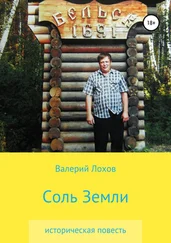Меня пригласили заведующим одной из редакций в издательство «Карелия». По стечению обстоятельств именно той, в которой вышла моя первая книжка. Месяца через два понял, что я поспешил с выбором работы. Оказалось, что мне трудно, почти невозможно, жить без газеты, без ее ритма, требований и главное — быстрого результата.
Именно в этот год партия объявила о начале перестройки. О ней много говорили и писали, но никто толком не знал, в чем же она, собственно, заключается. Далеко не сразу, а лишь через два-три года несколько ослабли жесткие требования идеологической цензуры, в центральных журналах стали появляться обличительные материалы о красном терроре, сталинских репрессиях и прочих жестокостях советского строя, о том, что постоянно замалчивалось. Начинался романтический период демократизации общества.
Мне всегда нравилась история как наука, и если бы не графоманский зуд, то обязательно поступил бы не на филологический, а на исторический факультет. Уже работая в газете, много раз обращался к забытым страницам прошлого. Всегда любил копаться в архивных документах.
По традиции именно наша редакция массово-политической литературы выпускала книги и брошюры по истории.
Сейчас уже бытуют легенды о появлении на свет первого сборника «Краевед Карелии».
Расскажу, как это было на самом деле.
Мы с главным редактором издательства Вадимом Яшковым пошли пообедать в столовую Дома политпроса (сейчас в этом здании располагается государственная филармония). За столом я ему рассказал об «Олонецких сборниках», которые в это время тщательно изучал.
— Интересно, — сказал Яшков. — Очень интересно. — И предложил: — Почему бы не повторить этот опыт на современном уровне? Издать один за другим четыре сборника краеведческих материалов. Представляешь, какое подспорье получат наши учителя истории.
Вернувшись в издательство, мы, не откладывая дела в долгий ящик, составили список членов редколлегии, в которую кроме меня (составителя) вошли два историка: Константин Морозов (от Института ЯЛИ) и Александр Пашков (от университета), а также наш знаток деревянного зодчества академик архитектуры Вячеслав Орфинский.
Название сборника предложил Морозов, у меня было другое — «Карельский краевед». Помню, Константин Алексеевич еще пошутил, мол, все карельские краеведы пишут по-русски. Далее была рутина: письма и телефонные звонки предполагаемым авторам, уточнение тематики и объема очерков, подбор иллюстраций.
Так что идею этой книги предложил человек, лишь косвенно связанный с проблематикой краеведческой литературы. Сейчас издание «Краеведа» осуществляет наша Национальная библиотека, и о Вадиме Ивановиче Яшкове как-то забыли.
Жизнь в издательстве была чинная, спокойная и размеренная. Довольно скоро выяснилось, что мне гораздо интереснее придумывать книжки самому, чем наблюдать, как это делают другие. Самой значительной в тот период стала работа над книгой «Есть у Отечества пророки», в которой собраны документальные свидетельства о первых советских диссидентах. Ее выход весьма ответственно курировал директор издательства Олег Стрелков, и потому оно осуществлялось почти в газетном темпе. Появление сигнального экземпляра совпало с началом деятельности первого Верховного Совета СССР, избранного на демократической основе. Благодаря нашим народным депутатам часть тиража попала в Москву. «Небольшое региональное издательство выпустило книгу союзного значения», — удивился журнал «Коммунист». Самоё появление рецензии на страницах этого издания я расцениваю как один из парадоксов того времени, когда рушились запреты и от Бреста до Владивостока бродил по стране шалый ветер свободы. Сегодня это уже история. Один из героев книги, физиолог Иван Петрович Павлов, оказался абсолютно прав. В своей лекции, прочитанной в Петрограде в 1918 году, он говорил: «Русский ум не привязан к фактам. Он вообще любит слова и ими оперирует. Мы занимаемся коллекционированием слов, а не изучением жизни… Мы главным образом интересуемся и оперируем словами, мало заботясь о том, какова действительность». Что в очередной раз и подтвердилось самым блестящим образом.
Чем дальше углублялся я в нашу историю, тем чаше приходил в недоумение. Возникающих вопросов было на несколько порядков больше, чем находимых ответов. Нередко факт реальности подменяла бытовавшая легенда. На одну из них, высеченную в граните, я каждый день любовался из окна своего кабинета. Это был известный каждому петрозаводчанину памятник вождю пролетарской революции. Меня всегда поражала его несоразмерность с окружающими зданиями. Немногочисленные публикации в газетах данный феномен никак не объясняли. В них вообще было мало деталей и подробностей, что наводило на определенные размышления и догадки. Я обратился к старым документам и постепенно, по отдельным штрихам, восстановил картину возведения монумента. Она значительно отличалась от той, застывшей и ставшей хрестоматийной, о которой писали десятилетиями.
Читать дальше