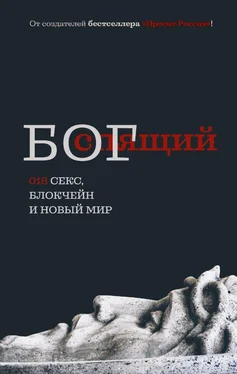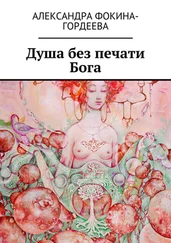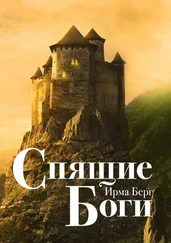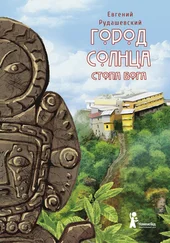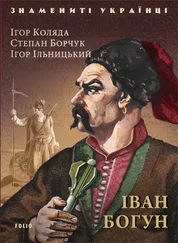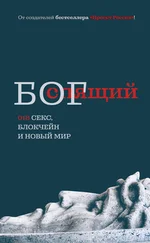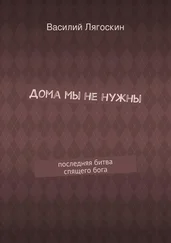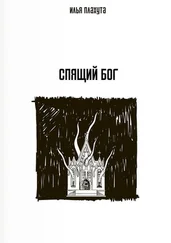Философами теперь называли не тех, кто стремился познать Целое и мыслит в онтологическом масштабе, а кто пытался осмыслить ту или иную сферу жизни. Сначала появляется философия любви, предательства, войны и т.п. По этим темам высказываются интересные мысли. Например, Гераклит говорит, что «Война — отец всех, царь всех: одних она объявляет богами, других — людьми, одних творит рабами, других — свободными». Потом появляется философия, архитектуры, виноделия и так далее.
Остается гадать, по какой причине людей, не демонстрирующие намерения познать Целое, стали называться в обществе философами. С тем же успехом людей, не намеревающихся учиться играть на скрипке, могли бы именовать скрипачами.
В философии видят в лучшем случае интеллектуальное развлечение. В худшем на нее смотрят как на демагогию и софистику. У новых философов нет больших вопросов уровня Фалеса и Анаксимандра. Соответственно, неоткуда взяться большим ответам. Зато в изобилии мелкие вопросы и такие же ответы. Каждый век пробивает новое дно.
Те, кого сегодня именуют философами, никакие не мыслители. В лучшем случае они архивариусы и библиографы прежних философов, читающие студентам лекции. Про охват Целого они не помышляют. Спрашивается, в каком же месте они философы? «Первым признаком философа является то, что он не является доктором философии» {76} 76 Л. Фейербах
.
Понимание философии как любви к мудрости, в том числе и бытовой, превратит ее в карикатуру — появится философия денег, песен, семьи, кино, спорта, бизнеса и прочее. Смешно даже предположить, что одна из этих «философий хотя бы в страшном сне видела своей целью поиск рациональных ответов на онтологические вопросы.
Представители этих «философий» называют себя философами с той же целью, с какой строительные институты называют себя университетами — для статуса. Это, как если бы астрофизиком и астрономом стали считать всякого, кто говорит о звездах. Не важно, о каких, небесных или на елке. Важно, что о звездах. Значит, астрофизик.
В IV веке Аристотель систематизирует накопившуюся информацию. Непонятно, что делать с бесконечностью. Ее невозможно признать, потому что ее невозможно ни в какую форму и характеристику уловить, а значит, невозможно мыслить. Но и отрицать ее тоже нет никакой возможности, потому что как ни крути, а она есть.
Аристотель не любил бесконечность, называя ее непознаваемой и неопределенной. Она ни на какую полочку не лезла, а если ее туда засовывать, ломала всю гармонию. В поисках ответа, что же с нею делать, он придумал деление бесконечности на два вида: актуальную и потенциальную. Актуальная — это настоящая, та, которая не ухватывается. Потенциальной бесконечностью он называет постоянно увеличивающуюся величину.
Например, совокупность всех существующих цифр — это актуальная бесконечность. А постоянно растущий цифровой ряд — потенциальная бесконечность. К первому типу бесконечности непонятно как подступиться. Со вторым типом бесконечности, которая есть в каждый миг величина, и может бесконечно увеличиваться, можно работать.
Проблема только в том, что аристотелевская потенциальная бесконечность — это не бесконечность. Каждый миг — это величина. Тот факт, что она постоянно растет, не делает ее не величиной. Называть величину бесконечностью только за то, что у нее потенциал расти без ограничений — с тем же успехом можно называть трактор бабочкой. Трактор даже ближе к бабочке (в топологии так точно) чем растущая величина к бесконечности.
Аристотель имел огромный авторитет еще при жизни. Во-первых, он действительно имел недюжинный ум. Во-вторых, свою роль играл тот факт, что его учеником был Александр Македонский, завоеватель тогдашнего мира. Своим авторитетом Аристотель продавливает мысль, что актуальная бесконечность реально невозможна, как невозможна самая большая цифра. К любой цифре n можно добавить 1. И нет такого n, к которому нельзя добавить +1. Так что актуальной бесконечности нет. Есть только потенциальная.
По факту это означало, что Аристотель отрицал бесконечность пространства. Но как это? Если пространство не бесконечно, значит, конечно. Пусть оно каждый миг растет, но в каждый миг у него есть граница. Граница — это то, что отделяет. Получается, конечное пространство отделено от… А от чего оно отделено? Что находится за его границей?
В эту сторону Аристотель не мыслит. Он просто постулирует. Как Бог. Этому «богу» потом будут вторить самые великие умы, включая Эйнштейна и величин этого уровня. Его ошибочные идеи до сих пор лежат в основании многих взглядов и задач. Например, задача Пуанкаре о форме Вселенной, которую, как считается, решил Перельман, имеет как раз аристотелевские корни {77} 77 про нее мы поговорим позже
.
Читать дальше