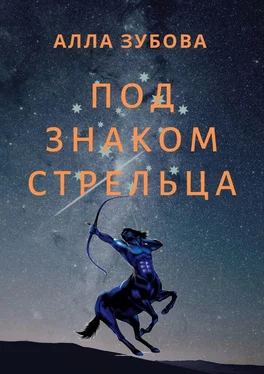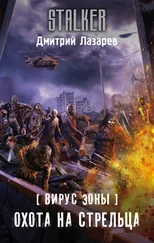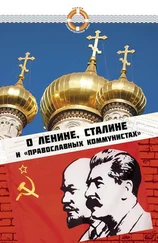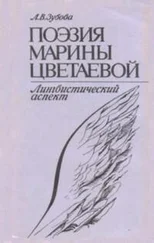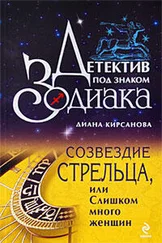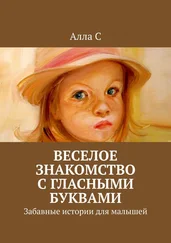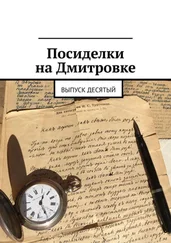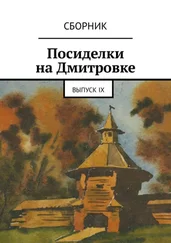В садах Лицея
Пушкин с детства хорошо знал поэтов Древнего Рима. Но отроком, как и его друзья-лицеисты, он попадает под страстное обаяние Овидиевой «Науки любви». У каждого из них первая влюбленность, сердечные секреты, заветные тайны, доверительные признания. Как часто Саша Пушкин и его «первый друг», «друг бесценный» Ваня Пущин убегали в лицейский парк и делились сокровенными чувствами к своим избранницам. Их поступками в амурных приключениях руководила «Наука любви», книжка, зачитанная до дыр, а многие страницы выучены наизусть. В Камероновой галерее юные лицеисты подолгу стояли возле скульптурного портрета Публия Овидия Назона, пытаясь разгадать таинственную загадку его блестящей и трагичной судьбы. Александр, тонко и глубоко понимающий поэзию, любил Овидия, особенно его элегии. Но профессор Кошанский, преподававший русскую и латинскую словесность, на первое место ставил Вергилия, Горация, Тибулла и Проперция. Великолепный знаток литературы, Николай Фёдорович, признавая высокий талант Овидия, считал написанные в изгнании «Тристии» и «Письма с Понта» слишком слезливыми, недостойными пера римлянина. Пушкин с таким мнением обожаемого учителя согласиться не хотел, а возразить доказательно не мог. Негласный спор оставался незавершенным. Скоро Пушкин обретет неопровержимые доказательства.
Опальный любимец
Страстная поэзия молодого Пушкина, воспевающая свободу и равенство, свежим ветром пронеслась по России. Ода «Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву», едкие эпиграммы на царствующих особ в рукописных списках хранились у просвещенных читателей.
Памятник А. С. Пушкину в Москве, скульптор — А. М. Опекушин
(1880)
Памятник Публию Овидию Назону в месте его изгнания — Констанце, прежнее название — Томы, Румыния, скульптор — Этторе Феррари (1887)
19 апреля 1818 года историк и писатель Карамзин пишет своему другу литератору Дмитриеву: «Над здешним поэтом Пушкиным если не туча, то, по крайней мере, облако, и громоносное (это между нами): служа под знаменами либералистов, он написал и распустил стихи на вольность, эпиграммы на властителей и пр., и пр. Это узнала полиция, etc. Опасаются следствий. Хотя уже давно, истощив все способы образумить эту беспутную голову, предал несчастного Року и Немезиде, однако ж, из жалости к таланту, замолвил слово, взял с него обещание уняться».
«Громоносное облако» грозило ссылкой либо на Соловки, либо в Сибирь. Пушкин просит заступничества у Жуковского и Карамзина, влиятельных лиц при императорском дворе.
Николай Тургенев в письме брату: «Пушкинское дело кончилось очень хорошо. Государь сказал, что он ничего не должен опасаться, это не повредит ему и по службе».
Ссылка в гиблые для Пушкина края заменяется якобы «назначением на новую должность» к наместнику Бессарабии генерал-лейтенанту Инзову, ставка которого находится в Кишиневе.
6 мая 1820 года от петербургской заставы тронулась в дальний путь повозка. При скромном багаже устроился дядька Никита Козлов в легком армячке. Спереди, подобрав под себя ноги (в любимой своей позе), расположился Пушкин. На нем была красная русская рубашка с опояской, буйные кудри прикрывала поярковая шляпа. Следом за ним ехали Дельвиг и Яковлев. Лицейские товарищи провожали друга до Царского Села. Здесь все трое сделали короткий привал, вспомнили свою безмятежную юность, распив бутылку золотого аи, крепко обнялись… И долго еще махали платками Александру, отбывавшему в неизвестность, два его славных товарища.
Кишинев встретил нового жителя солнечной погодой, навалами зрелых фруктов, гроздьями винограда, початками спелой кукурузы, треском грецких орехов под колесами повозки.
Иван Никитич Инзов радушно, по-отечески принял гостя, поселив на первом этаже своего дома, приказав не заботиться о хлебе насущном и мелочах быта. Конечно, генерал получил секретное предписание сообщать в Петербург о поведении ссыльного поэта в обществе. Он был честным служакой, но во всём, касающемся запавшего ему на сердце Пушкина руководился пословицей «до Бога — высоко, до царя — далеко» — и разрешал ему, как балованному дитяти, всё, лишь бы это не грозило здоровью да еще более суровым наказанием.
В это время в Бессарабии и ее главном городе Кишиневе было несколько будущих декабристо и немало интересных, высокообразованных людей. Буквально на другой день по прибытии к Пушкину пришел моложавый улыбчивый офицер. Извинившись, что не дождался особой рекомендации, представился: Липранди Иван Петрович. Разговор завязался сразу. Новый знакомый хорошо начитан, увлекается поэзией, библиофил, особо изучает творчество и судьбу Овидия Назона, сосланного в эти края. Загоревшийся такой беседой Пушкин тут же напрашивается к Липранди в гости. С радостным удивлением он рассматривает редкие издания. Никогда он не видел на разных языках столько полных собраний сочинений Публия Овидия Назона. Хозяин дома предложил Пушкину пользоваться его библиотекой как своей. Уходя, Александр взял Овидиевы «Тристии» («Скорбные элегии») на латинском и французском языках.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу