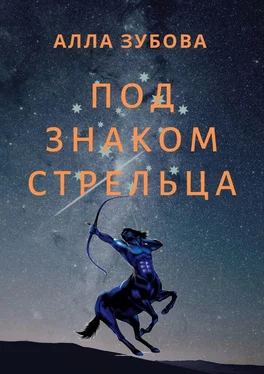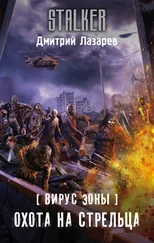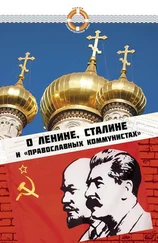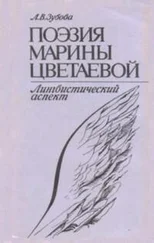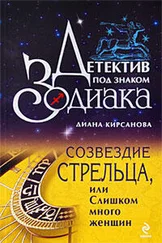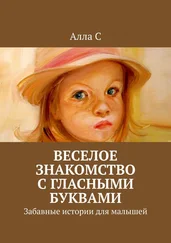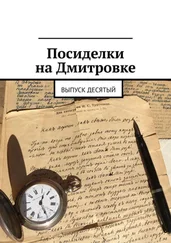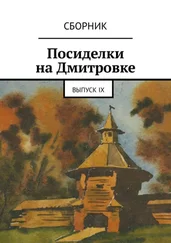Замечательно было то, что слушатели поняли нашу задумку, о чем писали в письмах. Они открыли для себя Левитана-артиста. Коллеги тоже его поздравляли, и он не скрывал, что ему это приятно.
Самая большая актерская работа Левитана — участие в постоянной передаче «Пишут ветераны», которая готовилась Всесоюзным Радио к юбилею Победы, но жила еще долго. Мягко, задушевно читал Левитан присланные со всех концов страны письма. Читал так, будто сидит он в кругу старых фронтовых друзей, вспоминая былые походы. Он сам себя считал ветераном войны. Всякий раз, когда где-либо отмечались памятные даты Великой Отечественной, праздник не мыслился без Левитана. Так Юрий Борисович приехал и в Белгород — город первого салюта. Там среди ветеранов за дружеской беседой перестало биться его сердце.
Это случилось 4 августа 1983 года.
Он ушел из жизни в полном расцвете творческих сил, слава Богу, не узнав перед кончиной, что у его профессии окажется короткий век. Сейчас на радио дикторов нет, есть ведущий программы. Он пытается говорить непринужденно, читает новости, комментируя их. Он как бы и чтец, и журналист, и артист. Но беда в том, что эти три дела выполняет зачастую непрофессионально, допускает много грубых ошибок. Речь диктора была эталоном правильного произношения, образцом нашей речевой культуры. А главное, когда в шесть часов утра раздавались позывные Всесоюзного Радио и голос Левитана произносил «Говорит Москва», каждый из нас был уверен — это говорит сильная держава, великий народ.
Знал бы, где упасть — соломки подстелил.
Провожая Старый Новый год, дворник Камергерского участка в блаженном хмелю забыл посыпать обледеневший тротуар песком, и я грохнулась. А соломы у меня с собой не было. Так я оказалась на больничной койке.
Мой организм, долгие годы служивший мне верой и правдой, вдруг стал похож на вязаное полотно, из которого выдернули спицы. Одна петля тянула за собой другую. Одна больница сменялась другой, другая — третьей. Палаты… Палаты… Многоместные, душные… Операционные — таинственные, холодные… Реанимационные — безмолвные.
В бессонные ночи плыли передо мной зыбкие кадры странного, сумбурного кино. Я пыталась увидеть свою жизнь со стороны и понять, что в ней написалось набело, а что осталось в черновиках. Тревожило недосказанное, не сделанное. Сколько укоров совести таят неопубликованные рукописи, невостребованные записные книжки, наспех занесенные пометки в блокнотах… Там судьбы людей, оставивших след в своем времени. Заветные листки лежат в дальних уголках наших письменных столов, в папках с тесёмочками, в шкафах, на антресолях. Лежат с робкой верой, что рукописи все же не горят и что пепел Клааса непременно достучится до сердца журналиста. Долги наши, как грехи. Вольные и невольные. Господи, прости нас!
* * *
Тоненькая, в четверть машинописного листа, в коленкоровом коричневом переплете записная книжечка. Это дневник мальчика, подлинную историю которого я, как ни старалась, не смогла рассказать в свое время. Но у памяти нет сроков.
Тетра́да Фалло́ — одна из самых тяжелых болезней сердца, когда пороком поражены оба желудочка и оба предсердия. Как правило, болезнь бывает врожденной. С таким недугом дети живут недолго. Очень редко, жестоко страдая от слабости, головных болей, малой подвижности, они дотягивают лет до 10—12. Единственный способ восстановить сердце — операция. У нас в стране первым ее успешно сделал Александр Николаевич Бакулев — академик, лауреат Ленинской и Государственных премий, герой Соцтруда. Он же в своей кардиологической клинике открыл отделение детской торакальной хирургии. Вскоре Евгений Николаевич Мешалкин — новосибирский талантливый кардиолог — последовал его начинанию. Появилась уникальная медицинская техника. И все же до сих пор тетрада Фалло — труднопреодолимый барьер даже для самых опытных врачей. А в 60-х годах спасенных от нее детей было очень мало. Тогда-то я, начинающий журналист, получила задание от радиостанции «Юность» взять интервью у академика Бакулева и попросить его рассказать о проблемах детской торакальной хирургии, о молодых врачах, которых он готовит себе на смену.
Взгромоздив восьмикилограммовый «Репортер» на плечи, я отправилась на Ленинский проспект, в клинику. Александр Николаевич, высокий, худой, мосластый, с широкими ладонями пахаря встретил меня по-деловому, коротко и емко ответил на мои вопросы. Прощаясь, я попросила разрешения повидать детей, которым предстоит операция. Бакулев помолчал, потом удивленно улыбнулся: «А что? Продезинфицируем ваш аппарат, вас обрядят в халат, колпак, бахилы. Ведь наша ребятня никогда не видела живого журналиста, да тем более с такой техникой! Для них это будет событие. Даю вам полчаса».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу