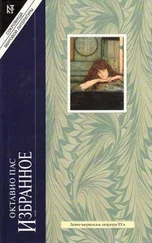Вся сцена эта виделась Жюлю в каком-то необъяснимо грандиозном масштабе, словно во сне: она уходила, и он отпускал ее, она отделялась от его жизни, завершая его путь вот таким монументальным образом. И все же ее миниатюрность, сдержанность и изящество придавали роскошному уходу близость и тепло. Окажись он рядом с ней, прикоснись он к ней, и это изменило бы все.
Но он смотрел, как она исчезает среди стройных рядов коротко подстриженных деревьев и длинных цветочных клумб под августовским солнцем. Она ушла. Вокруг стояла тишина, лишь ветер шумел, поднимаясь с востока и клубясь над похожей на крепость подпорной стеной Большой террасы. Из-за виноградника вился дымок. Маленькая белокурая девочка бежала впереди родителей через травяной круг. Родители шли следом, на руках у отца сидел младенец и щурился на солнце, а потом семейство тоже исчезло из виду.
В дальней церкви зазвонил колокол, и тут же прямо перед глазами у Жюля возник бело-серый чугунный колокольный бок. Ничто не исчезает бесследно, думал он. Что появилось однажды, остается навсегда. Ничто не потеряно. Все где-то есть, навсегда выгравированное на черных стенах времени. Он несколько раз вдохнул и выдохнул, и, когда мужество, в котором он так нуждался, стало возвращаться к нему, он отправился на поиски.
* * *
Хотя на небе не было ни облачка, ему казалось, что сверкнула молния на солнце и раздался гром среди ясного неба. Внезапно он почувствовал полное бесстрашие и решимость, явившиеся не иначе как из прошлого. Еще солдатом, он познал мужество, которое приходит по пятам за тревогой. Всегда волнуясь перед уходом в патруль, с первым же шагом во тьму он примирялся со смертью, и с этой минуты страх оставлял его, и он чувствовал легкость и радость, словно был неуязвим.
Утренний зной разогнал всех с длинной дорожки, и он в одиночестве созерцал мерцание деревьев на солнце. И, словно под стать его волнению, из памяти возникло Allegro из Третьего Бранденбургского. И как только оно побраталось с жарой и светом, Жюль побежал. Он бежал быстрее, чем человек его возраста способен бежать в жаркий день и остаться при этом в живых. Он подгонял себя так, словно сражался за жизнь. Сначала все стало на удивление ясно. Пятидесятые и шестидесятые годы превратились в образы, которые, подобно лепесткам пионов, опали внезапно, легко и почти все одновременно, все такие же девственно-белые, теперь они устилали траву.
Он не просил о ней, но был благодарен за эту непрошеную музыку – она была совершенным произведением искусства и совокупностью, неподвластной разуму. Музыка была кислородом, который поддерживал в нем жизнь. Он не стал ни великим исполнителем, ни великим композитором – и то и другое отвлекло бы от главной цели его жизни. Но сколько себя помнил, он никогда не падал духом и жил больше ради других душ, чем ради своей собственной. Пока он бежал, музыка собрала все, что он знает и знал в своей жизни, и все это, казалось, завертелось вихрем алого и серебряного света.
Потом это красное и серебряное, похожее на огнегривого льва, то ли взметнувшаяся солнечная корона, то ли город, пылающий, но невредимый, превратилось в золото, и золото это каким-то образом было Францией со всей ее историей, это была Франция, восходящая как солнце. И как после страшных лесных пожаров наступают годы юной и бестревожной зелени, так золотой воздух и свет, плывущий над пламенем, были обещанием грядущего безмолвия и покоя.
Бежать становилось все труднее и труднее. Как ни пытался он удержать темп, но замедлиться пришлось, а с замедлением пришла иная музыка, та самая, которую он ждал, – Sei Lob und Preis mit Ehren. Теперь мать и отец были уже совсем рядом, у Катрин появился шанс, и Люк мог исцелиться. Жюль должен был, обязан был остаться с отцом и матерью, Филиппом и Катрин Лакур, – когда он произносил их имена, они становились ближе, не по смыслу, не по закону или логике, а вследствие алогичности любви. Теперь он наконец-то направляется туда, где ему самое место.
Он бежал, краснота и чернота наползали с периферии его зрения, пока не обволокли его всего, и тогда Жюль ослеп. Он утратил ощущение собственного тела. Все чувства почти покинули его, когда он услышал звук собственного падения, скрежет белых камешков на дорожке и на миг ощутил, как они вонзились ему в левую щеку. Он лежал, зная, что у него, как ему было сказано, осталось еще по крайней мере тридцать секунд, тридцать секунд на то, чтобы все нити сплелись, все чувства воскресли, все воспоминания собрались – не в деталях, а в единой, чудесной полноте, в песне, слишком великой, чтобы ее услышали живущие.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу