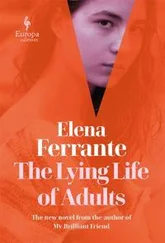Но больше всего меня страшили неуловимые образы, обрывки слогов в моей голове. Хватало одной мысли, которую я не могла зафиксировать, фиолетовой вспышки смыслов, зеленого иероглифа в мозгу, чтобы я начала паниковать: мне казалось, что болезнь возвращается. Меня пугало, что в углах квартиры снова могут поселиться нечеткие, промозглые тени – черные клубы, передвигающиеся стремительно и шумно. Поэтому я то и дело включала и выключала телевизор, чтобы не оставаться наедине с самой собой, или напевала колыбельную на языке моего детства, или чуть не плакала перед пустой миской Отто возле холодильника, или в приступе сонливости ложилась на диван и водила по себе руками – от этого на коже оставались следы ногтей.
С другой стороны, меня очень вдохновляло то, что, как я заметила, ко мне снова возвратились хорошие манеры. Я перестала сквернословить – в этом не было больше необходимости, и мне было стыдно, что прежде я себе это позволяла. Я вернулась к книжному языку, интеллигентному, но немного неестественному – это придавало мне уверенности и позволяло держать дистанцию. Я снова контролировала тон голоса, пряча раздражение глубоко внутри, чтобы оно не прорвалось со словами наружу. В итоге связи с внешним миром тоже начали постепенно налаживаться. Проявив вежливость и упорство, я отремонтировала телефон и даже выяснила, что и мобильник можно починить. Молодой продавец в магазине неподалеку показал, как легко это делается – я бы справилась и сама.
Чтобы избавиться от одиночества, я принялась названивать знакомым. В первую очередь тем, у кого были дети в возрасте Джанни и Иларии, чтобы выбраться куда‐нибудь вместе на денек-другой после всех этих жутких месяцев. Несколько таких звонков показали мне, как я очерствела, как не хватало мне улыбок, слов, дружеских жестов. Я снова начала общаться с Леа Фаррако и, когда она однажды зашла проведать меня, держала себя с ней весьма непринужденно. У нее был вид человека, который намерен обсудить нечто важное и щекотливое. Она по своему обыкновению долго мялась, но я ее не торопила и не выказывала никакого беспокойства. Убедившись, что я не собираюсь впадать в ярость, Леа посоветовала мне быть мудрее – мол, отношения могут закончиться, но зачем же лишать детей отца, а отца – детей, и еще что‐то в этом же роде. А в заключение сказала:
– Ты должна выбрать дни, по которым Марио будет навещать детей.
– Это он тебя подослал? – спросила я без злости.
Она неуверенно кивнула.
– Передай ему, если он хочет увидеть детей, пусть просто мне позвонит.
Я знала, что в будущем мне так или иначе придется находить общий язык с Марио и выстраивать с ним отношения – конечно же, только ради детей. Однако я этого не желала – я предпочла бы никогда его больше не видеть. Тем вечером, перед сном, я почувствовала, что его запах все еще сохранился в шкафу, что он исходит от ящиков его ночного столика, от стен, от полки для обуви. Все последние месяцы этот обонятельный сигнал вызывал у меня ностальгию, вожделение, злость. Сейчас же он напоминал мне только об агонии Отто – и все. Я открыла для себя, что он похож на запах того старика, который в автобусе терся о молодых, удовлетворяя похоть своего увядающего тела. Это меня раздосадовало и опечалило. Я ждала, пока этот человек, бывший когда‐то моим мужем, ответит на сообщение, что я передала ему с Леа, – ждала спокойно, без напряжения.
Теперь мне не давали покоя мысли об Отто. Я сильно рассердилась, когда однажды днем застала такую сценку: Джанни нацепил на Иларию собачий ошейник и, пока та лаяла, тянул за поводок и кричал: “Фу! Назад! Я тебе покажу, если не прекратишь!” Отобрав у детей ошейник, поводок и намордник, я, обеспокоенная, закрылась в ванной. Затем неосознанно, будто собираясь примерить украшение в стиле панк, попыталась застегнуть ошейник у себя на шее. Опомнившись, я расплакалась и поскорее выбросила все в мусорное ведро.
Как‐то сентябрьским утром, пока сын и дочка играли в парке Валентино, время от времени ссорясь с другими детьми, мне показалось, что вдалеке мелькнул Отто – да, именно он, наш пес. Я сидела на лавочке в тени под большим дубом. Рядом журчал фонтанчик, голуби утоляли в нем жажду, и от их оперения во все стороны разлетались брызги. Я что‐то писала себе в тетрадь и почти забыла, где нахожусь. Я слышала только шепот фонтана, его струек, сбегавших среди водных растений по уступам невысокой каменной груды. Внезапно краем глаза я увидела, как по лужайке пронеслась длинная, гибкая тень немецкой овчарки. На какое‐то мгновение я подумала, что это Отто вернулся из другого мира, и мне показалось, что внутри меня опять что‐то распадается на части: так мне стало страшно. На самом же деле, как я очень скоро убедилась, у этой собаки не было с нашим несчастным псом ничего общего: она, как и частенько Отто после долгой беготни по парку, просто захотела напиться. Подскочив к фонтану, овчарка спугнула голубей, облаяла ос, вившихся роем над водой, и, высунув лиловый язык, жадно припала к бурлящей струе. Закрыв тетрадь, я растроганно смотрела на нее. Этот пес был поприземистее и поупитаннее нашего Отто. Мне даже показалось, что он не такой добродушный, но я все равно умилилась. По свистку хозяина он стремглав умчался прочь. Голуби вернулись на свое место и принялись резвиться в фонтане.
Читать дальше
![Элена Ферранте Дни одиночества [litres] обложка книги](/books/404671/elena-ferrante-dni-odinochestva-litres-cover.webp)
![Элена Ферранте - История о пропавшем ребенке [litres]](/books/32091/elena-ferrante-istoriya-o-propavshem-rebenke-litres-thumb.webp)


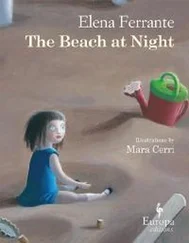


![Андрей Хуснутдинов - Дни Солнца [litres]](/books/384354/andrej-husnutdinov-dni-solnca-litres-thumb.webp)