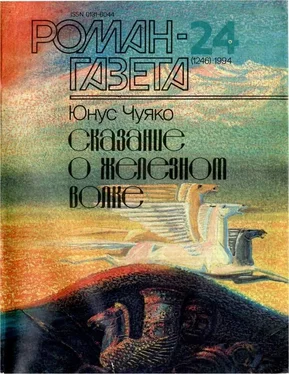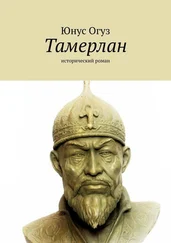— И вы играли? — спросил я, но Дышеков впервые надолго смолк. Стоял, задумавшись, потом негромко проговорил:
— Он как знал!
И снова замолчал.
— Кто, Гузир Батович?
— Командир полка, — сказал он. — Печурин… Утром прямое попадание в наблюдательный пункт, а он как раз там был — перед атакой… светлая память. Совсем как наш был, сибиряки — они, ну чистые адыгейцы, Сэт, да-да, это я тебе говорю! Я и ему это говорил, и он всегда смеялся, а тут… Когда его хоронили, я бил в барабан. Представляешь, Сэт?.. Один барабан — тоскливо так: бух!.. Бух! Офицеры наши попросили: бей! Пусть слышит. Он знал, что погибнет. Пусть теперь знает, что мы все поняли и что мы его не забудем… А наш оркестр… По-моему, фашистов били мы уже между делом, хотя били по-прежнему будь здоров как… Если бы я надел свои ордена, Сэт! Но главное для нас стало: собирать трубы для оркестра, учить людей, дирижера искать… Но зато к-какой это стал оркестр, когда мы дошли наконец до Берлина! Какой большой оркестр, я вообще таких больших больше потом не видел, а главное — как он играл! Все, что тогда играли — это само собой. Но по моей просьбе наш дирижер — я тебе потом о нем отдельно расскажу — сам заготовил ноты, расписал по партиям, и наш оркестр выучился играть исламей… ей, Сэт! Как мы его играли!.. И в Адыгее, я уверен, было слыхать! Только никто тут, конечно, тогда не понимал: откуда это доносится родная музыка… А это мы играли на большой площади перед рейхстагом. Я помахал рукой дирижеру: будь другом — пора!.. И на площади разлился и забил наш исламей… Ты бы видел, Сэт!.. Как в разных концах площади, там и тут, зашевелились солдаты и стали пробираться поближе к оркестру… Наши шли: адыгейцы, черкесы, кабарда… Но первым меня окликнул твой отец, Сэт!.. Я дернулся и тут же понял: мне нельзя — я играю. Умри, но играй — закон! Я стал кивать ему, а он мне, и оба мы плакали и смеялись сквозь слезы, а потом… если бы ты только видел это, Сэт!.. Мы с ним устроили такой хеч-хас [34] Известный из эпоса вид борьбы, при которой противники «вбивают» друг друга в землю.
, что на берлинском асфальте перед рейхстагом долго еще были ямки, которые выбухали своими солдатскими сапогами два молодых и здоровых адыгейца — к-какие мы были, Сэт!.. Тогда он и рассказал мне, как насвистывал в лагере «Адыиф»… Смеялся: ты, конечно, оказался хитрее меня, Гузир! Твоя музыка будет чуть громче моего свиста!.. А к нам все подходили и подходили наши, с Кавказа. «Кто?..» — «Лезгин!» — «Кто?..»- «Абхаз, я абхаз!»- «Кто?..»- «Твой брат грузин!»- «Ты кто?..» — «Абаза я, абаза!»- «Этот сразу видать: армян!..»- «Ты?..» — «Кумык!» — «А ты?..» — «Азербайджан» — «Я аварец!..» — «А мы — осетины!» Весь Кавказ был там, Сэт, — весь Кавказ! Подошли два кубанских казака, просят: сыграйте еще раз этот танец! И вот, представляешь, Сэт? Что там было!.. Сперва плясали кавказцы, а потом все, кто там был — вся площадь танцевала наш исламей!.. Палки от барабана я отдал Алесю, был у нас сын полка, белорус, а сам тоже пошел помогать ребятам… И мы все смеялись и плакали… к-как шальные! А когда наконец остановились, ко мне подошел старый солдат и говорит: «Я ногай!.. У нас не принято хоронить с оркестром. Но я попрошу, чтобы меня провожали с музыкой: она напомнит этот великий день…» И все кавказцы вслед за ним тоже стали говорить: закажу себе музыку. Когда помру. И я закажу!.. На память обо всех нас… О нашей общей победе, о Берлине, который мы все-таки взяли…
Или я чего-то всю жизнь не понимал, а этот Дышеков что-то знает от своего брата — моего учителя и друга отца…
— Ты все понял, Сэт? — словно настаивал Гузир Дышеков, и только тут я догадался, чего он от меня хочет: на противоположной стороне улицы стоял запыленный автобус, и в нем, несмотря на жару, все еще сидели музыканты с трубами в руках — видно, старший Дышеков предупредил их, чтобы пока не выходили.
— Воля отца — закон для меня! — сказал я как можно тверже.
Скорее всего музыканты понимали, что случай и в самом деле — особый. Как сперва очень тихо прокрадывалась в сердце их музыка, как потом у всех его сжала!
А может быть, по дороге в аул старший Дышеков рассказал им эту историю — и о том, как почти без надежды отец насвистывал «Адыиф» в немецком лагере и как бросился потом в Берлине на родные звуки исламея…
И снова меня полоснуло это очень простое и горькое: «Тот, кто вернулся с войны, ушел от нас!»
Или это не только по нему, по моему отцу, Бираму Мазлокову, рыдали трубы — это был плач по всем погибшим тогда в войну и умершим от ран уже после нее адыгейцам… Общая гыбзэ — по ним всем.
Читать дальше