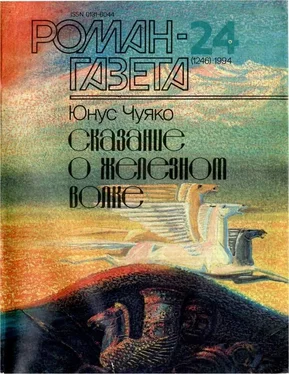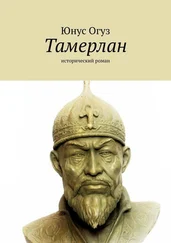— Нас послали за тобой! — снова выдавил Урусбий и длинно, как мальчишка, вздохнул. И теперь уже Кызар словно попытался догнать его:
— Дома тебя очень ждут, да…
— Всех нас очень ждут дома! — продолжал я валять дурака. — Как, юные шиблокохабльцы, считаете: нас ждут?.. Разумеется, с победой.
Может, это была самозащита?.. И речь шла уже вовсе не о том, как продлить радость…
— Председатель прислал за тобой свою «волгу», Сэт! — очень грустно вдруг сказал Ереджиб и снял свою шляпу в дырочках. Приподнял было руку, чтобы обтереть пот, но на полдороге задержал ее, медленно опустил и тут же уронил голову. — Тебе надо срочно домой, мальчик!..
И самозащиту мою пробило наконец: закрыл лицо руками, повернулся и вслепую пошел к дороге. Кызар и Урусбий подхватили меня с боков под локти, сказали снова один за другим:
— Осторожно — надо беречь себя…
— Мужайся, Сэт. Всё по воле Аллаха…
Прошло уже столько лет, и многое в памяти почти стерлось, многое уже забылось совсем, но эти прорвавшиеся сквозь мучительный стон слова нашей матери, Кызыу, полоснувшие тогда меня по сердцу, наверняка буду помнить, пока жив: «Тот, кто вернулся с войны, ушел от нас!»
И все, что происходило потом в нашем доме, в нашем дворе, по дороге на кладбище и уже там — все это так навсегда и осталось для меня словно нанизанным на этот острый мамин крик… И громкие причитания, и молчание, которое недаром называется гробовым, тихие разговоры и распоряжения шепотом, виноватые речи друзей отца и даже тут бодрые фразы районных начальников — все соединили собой и всему словно придали особый смысл слова матери — простые, как жизнь. Горькие — как смерть.
Не знаю, что во мне сильней было: боль от утраты, которую с каждым часом обильней подпитывала запоздалая и никому не нужная теперь жалость, или чувство вины. Впервые я ощутил его так явственно — оно как будто съедало меня изнутри… Может, я в самом деле — неблагодарный сын?
Студент-историк, будущий ученый… И вдруг как будто дурной нарыв во мне прорвало — всего лишь год назад: «Сколько можно, отец?! Ходить по чужим дворам и поправлять крыши, чинить заборы… В конце концов я не нанимался копать им ямки под новый «скворечник» или подпирать старый!»
«Да-да, извини, сынок! — откликнулся он вдруг виновато. — И правда: при чем тут ты?.. Я ведь, как ты говоришь, нанялся , когда тебя еще не было на свете… при чем тут ты? Да и работы там не так много… Я один схожу, я — один!»
Временами вина давила мне сердце с такой силой, что после, когда что-то отвлекало меня от тяжелых мыслей, я испытывал не только облегчение, но будто какую-то печальную просветленность. Тогда краем глаза замечал Чемаля Чатокова, деловито переходящего от одной группки вполголоса беседующих людей к другой — тоже в высоких папахах, и кто-то словно подсказывал мне с горькой усмешкою, что этим он и занят здесь больше всего — осмотром собственных достижений… Иногда видел Рамазана Кукова, который с горящими глазами что-то доказывал незнакомым мне молодым мужчинам, и с печалью вдруг думал, что Умный Человек и тут остался самим собой…
Будто каменные изваяния замерли трое стариков: сразу постаревший, осунувшийся вдруг, но ставший от этого как будто еще более величественным дедушка Хаджекыз, который время от времени прикрывал глаза, словно стараясь что-то припомнить, и двое братьев Юсуфоковых по бокам от него — Даут и Урусбий…
Ко мне подошел Ереджиб — как никогда растерянный, в той же шляпе с дырочками, в которой он с нами работал, в старом костюме: по-моему, в нем же он расхаживал перед учениками все годы, пока учил мой класс. Тем более шикарно выглядел рядом чем-то очень похожий на него человек, одетый с иголочки: новенькая шляпа из велюра с узенькими, как у молодых модников, полями, новенький темно-серый костюм, черные лаковые туфли — невольно мне бросилось в глаза, что они на высоком каблуке.
— Это Сэт, — представил ему Ереджиб. — Тот сын, о котором я тебе говорил… А это мой брат Гузир — он на два года старше. Они уходили вместе с твоим отцом…
— К-как мы уходили, ты скажи, Ереджиб, к-как! — горячо заговорил старший Дышеков. — Молодежь должна знать, должна это помнить… к-как мы верили тогда! Укладываю вещевой мешок… к-какие там тогда мешки!.. Так, к-котомка!.. Мать наша подошла, кладет в нее алюминиевую ложку. А я выхватываю ее из котомки и — в окошко! Так и вышвырнул!.. Мы, кричу, не хантхупс хлебать, не шипе жевать едем — едем фашистов бить!.. А вечером, уже в Краснодаре, все едят, а я сижу, слюнки глотаю — у меня ложки нет. А попросить стыдно! Мы такие были: для меня легче было с девушкой договориться, чем у ровесника попросить закурить — такие мы были гордые… и тут! Лучше с голоду помереть, чем у кого-то ложку просить. И вдруг подходит Бирам… Подходит твой отец, мальчик!.. Протягивает мне ложку: возьми, Гузир! Ешь. Как догадался?.. К-как?! Вот он такой был, Бирам Мазлоков! Говорить ничего не надо — все сам видит. Даже мелочь какую-нибудь — все равно. Есть такие люди: не глазами видят, а сердцем… Ей, мало остается таких людей!..
Читать дальше