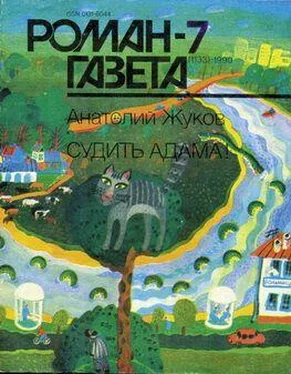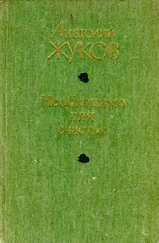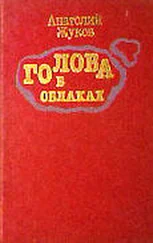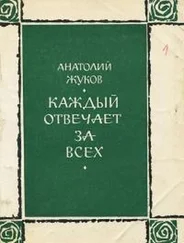И опять замолчал, ни о чем не спрашивая, не советуясь. Стало быть, теми же тропками кружит, в том же темном лесу жизни блукает.
Монах наклонился к костру, посовал в середину его несгоревшие концы сучьев, подкинул еще несколько веток сушняка и опять уставился на огонь. Дамка сидела рядом и, следя за прыгающими и качающимися языками пламени, не по-собачьи серьезно думала о чем-то большом и важном.
А может, и не думала, потому что, как и хозяин, была просто заворожена огнем.
Великое, ни с чем не сравнимое действие производит теплое, пляшущее пламя костра. Чернов, Монах и его Дамка очарованно и бездумно глядели на огонь (вот так еще смотрят на текучую воду) и, отрешенные от всего мира, от самих себя, были сейчас родными и равными не только друг другу, но и земле, костру, воде, безмолвному лесу, молодому месяцу – всему окружающему миру. Они не сознавали этого, они вообще сейчас ничего не сознавали, потому что в эти минуты отключается ненужный разум, со всеми его заботами, страхами и радостями, они даже ничего не чувствовали, если не считать идущей от костра пахучей солнечной теплоты и уюта, потому что их самих не было, они растворились в этом молчащем мире, стали его частичками, но не отдельными, не отъединенными каждая своей оболочкой, а слитными в одно целое, бесконечное и безначальное. И было это безразмерное живое целое почти не познанным, не имеющим названия, драматичным, и видимым проявлением его стал вот этот чарующий древний процесс: изгибались и ворочались на красных углях охваченные жарким пламенем ветки, с треском разлетались в пахучем дыму золотые искры, качались, то вытягиваясь, то приседая, живые лепестки огня, и было от костра тепло и светло среди ночного сумрака безбрежного мира. И когда позади них раздался тревожный человеческий крик, а впереди, в заливе, плеснулась рыба, они все трое переглянулись и, уже очнувшиеся, уже в этом разъединенном мире в своей индивидуальной сущности, опять сблизились этим предупреждающим криком опасности, и Дамка, как самая близкая к изначальному, самая чуткая, угрожающе гавкнула и отважно кинулась на крик, защищая хозяина и его товарища, а за Дамкой вскочили старики.
Монах был проворней в этом деле – егерь, охотник – и агрессивней по характеру, он зарядил на ходу двустволку и бабахнул в небо из одного ствола, чтобы ободрить Дамку и остановить прокравшегося к рыбе злодея. И сделал он правильно. Тут же послышался сдавленный крик, шумная возня, рычанье Дамки и уже отчаянное: «Караул, убивают!»
Голос мужской, знакомый. Монах, задыхаясь, остановился.
У водовозной машины, рядом с длинным транспортером, Дамка катала по траве Степку Лапкина. Он втянул голову в плечи, защищая лицо и шею, неловко отбивался от наседавшей овчарки и кричал суматошно:
– Караул! Разбой! Спасите!… Да что же ты, тварь такая… Ой-ёой-ёой!
А в сторону колхозной уткофермы удалялся топот, угадывались две человеческие фигуры. А топот почему-то был одного человека.
Монах оттащил за ошейник разгоряченную Дамку и услышал отдаленный крик:
– Стой, стрелять буду! – Это приказывал Федя-Вася.
Подошел запыхавшийся Чернов, увидел сидящего на траве Лапкина.
– Кого тут убивают, тебя, что ли?
– Убери волкодава, дядя, убери скорее, дедушка! – Лапкин, сидя, пятился к машине. – Мы же так только, шутейно. Убери зверя!
Монах подтянул за ошейник овчарку к ноге, презрительно бросил:
– Вставай, басурман. И не дрожи. Умел пакостить, умей и отвечать.
Лапкин опасливо поднялся.
– Мы отведать хотели, дедушка… Мы маненько. Дядя Степан Бугорков подбил, я не хотел. Вот ей-богу!
– Тьфу! – Монах презрительно плюнул ему под ноги и увидел, что Лапкин стоит босиком и что-то делает руками сзади. – Повернись спиной!
– Не надо, дедушка, я больше не буду, ей-богу!
– Внучек нашелся. Повернись, говорю!
Лапкин со стыдливой церемонностью повернулся, и Монах, грешник, не удержался от смеха, а медлительный Чернов покачал головой: Лапкин старался прикрыть одной рукой белые ягодицы, а другой подбирал свисающие длинные лоскутья – от штанов сзади осталась только опушка, стянутая ремнем.
– Молодец Дамка! – похвалил Монах. – Таких стервецов душить надо без разговору.
Чернов не одобрял такой крайности, но и не осуждал Монаха: где нет строгости, там и твердого порядка не добьешься. Положим, одной строгостью порядка тоже не наведешь, сознательность должна быть, но опять же сознательностью без строгости ничего не сделаешь. Она, сознательность-то, у каждого своя, а строгость Монаха, как закон, одна для всех.
Читать дальше