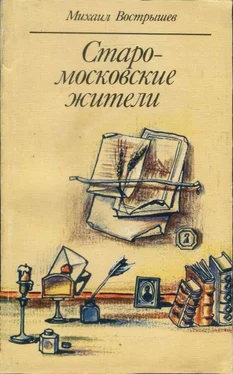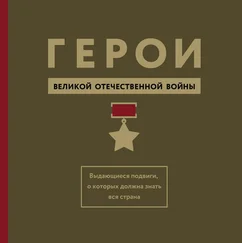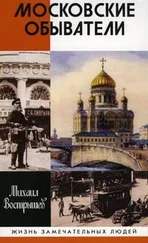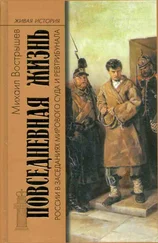Глаза Федора Петровича светились бездонной голубизной, они были по-детски искренни и несуетны. Наташа поверила им и с благодарностью заулыбалась.
— Вот-вот! Всегда будьте такой! — воскликнул Гааз с юношеским пылом.
— Нет, вы меня просто жалеете. Я обязана сделать больше. Это очень мало — говорить людям хорошее. Вот стать бы такой, как вы!.. Наверное, рядом с вами всегда было очень много хороших людей. А мне не везет — вокруг одни притворщики. Иногда хочется говорить много-много хорошего, а молчишь, потому что знаешь, что люди не заслужили ни откровенности, ни жалости.
— Не клевещите на себя…
Федор Петрович напустил на себя назидательность и пустился в поучения с той же любовью, что и брался за любое дело. Он уже не смущался из-за торжественных проповеднических слов, слетавших с его уст, потому что был поглощен одним желанием — наставить на путь истины милое наивное дитя.
— …Кому бы вы ни сказали, даже негоднику, хорошее слово, он не может от этого стать хуже, он станет только лучше или, на худой конец, не заметит его. Значит, надо говорить это слово, если хотя бы одному из тысячи оно поможет. Вы не будете браниться, злословить, и Они тоже будут стремиться не согрешить языком своим. Вы будете заступаться за отсутствующих, и Они перестанут порочить доброе имя человека, которого нет рядом. Вы будете кроткой, долготерпимой, снисходительной к ним, и Они тоже простят вам ваши грехи. Только делайте все скромно, не искушайтесь роскошью, любите делать добро бескорыстно.
— Но как? Как полюбить злых, жестоких, бесчеловечных? И, главное, зачем? Не легче ли и не лучше ли просто очистить от них землю? Я, конечно, не о тех несчастных, я о счастливчиках говорю. О тех, кто сам не страдает, но заставляет жить в страданиях других.
Ноздри Наташи трепетали, глаза горели гневом, жаждой борьбы с людьми.
Федор Петрович с болью за Наташины слова прервал ее:
— Ни вам, ни мне никто не давал права избирать тех, кто достоин казни. И вы не такая, как сейчас, вы лучше, и вы должны научиться прощать. Христу было горше, но он простил всех.
— Я бы не простила, — тихо, но твердо промолвила Наташа.
Федор Петрович взял ее ладошки в свои, погладил.
— Я тоже, когда мне было семнадцать, не хотел прощать. И людям, которым я не хотел прощать, нравилась моя вражда. А потом я один раз простил недругу, и ему стало неуютно, он стыдился себя, он мечтал, чтобы я сделал ему подлость, ответил злом на зло… Так я смог наказать его. Потом я простил другого — и опять победил. Потом я уже не заставлял себя прощать, я делал это, потому что хотел быть победителем. А потом стали прощать и меня. И мы все считали себя победителями и не спорили. Оказалось, что так жить проще и легче…
— Нет, вы обманываете меня, вы же сегодня разозлились там. И вы не имели права прощать им, счастливым и бессердечным. И мне тоже не должны прощать, потому что я была среди них. — Наташа истерически всхлипнула. — Но почему тем людям так плохо? Зачем Их так тяжело наказывают? Они в грязи, в болезнях, в духоте, и к тому же Их бьют.
— Эх, княжна, княжна, — Федор Петрович погладил ее по волосам, — Им не только там, Им везде тяжело. Не дай-то бог вкусить хоть сотую часть горя, которым порой удостаиваем Их мы, стоящие на страже государства и закона, а вернее — на страже живота своего.
Оба спутника, молодой и старый, замолчали и тогда услышали, как вверху, на козлах, то ли пел, то ли просто драл глотку Егор. Весеннее солнце нещадно палило, и он, предчувствуя скорое пробуждение природы, желал для себя веселья, лихости, буйства. Но со своими дохлыми лошадьми и беспокойным хозяином лишь в горлодранье да еще разве в рюмке водки мог обрести вольную благость беззаботного скитальца престарелый кучер тюремного доктора.
Но вот наконец пролетка застучала по Пречистенке — старинному тихому убежищу дворян от суеты торгового города, улице, которая вместе с близлежащими переулками, господскими домами со львами на воротах, с Сеньками и Ваньками в ливрейных фраках, составляла нечто манерное, изысканное, наподобие французского Сен-Жерменского предместья.
Егора обогнала карета, где на козлах, рядом с кучером, восседал, помахивая кнутом, барчонок лет тринадцати-четырнадцати. Он вдруг с улюлюканьем размахнулся и ловко опустил кнут на спину мужичка, ехавшего навстречу, развалясь в санях. Мужичок вскрикнул от неожиданной боли, посмотрел вслед карете с лакеями на запятках, наградившей его хлестким ударом, и горько вздохнул. А барчук привстал, обернулся и звонко рассмеялся.
Читать дальше