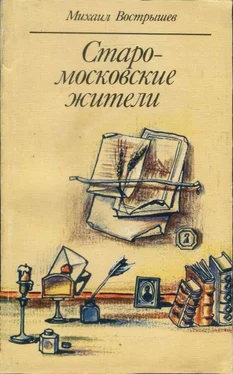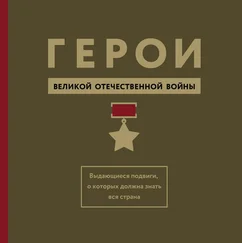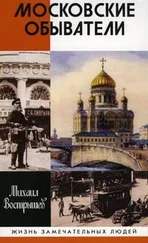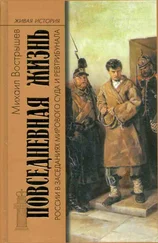— Эх ты, свиное ухо. И как у тебя совести хватило предложить офицеру рубль. Тебе ж объяснили, дураку, что не Иван Митрофанович определил твоей спине сию меру, не мне и отменять ее. Пойми ты, дурья башка, сам государь приказал смотрителям тюрем вразумлять лозой ослушников. Это ж и тебе и государству на пользу… «Розга ум вострит, память возбуждает и злую волю ко благу прилагает», — с чувством продекламировал Протасов.
— Да забьет меня этот дуралей, — опасливо глядя на Тимошку, простонал арестант.
— Кнут не архангел — души не вынет… — Всего-то двадцать розог… Ну-ка, Тимошка, пропиши ему ижицу.
Протасов отвернулся к окну и принялся рассматривать стену тюремной церкви. Потом взгляд потянулся вверх, к огненной луковке, вознесшейся к небесной сфере и поведавшей ей о плачевной юдоли. Протасову вспомнились тятенька и маменька, как они складно пели по вечерам в праздничные дни и полдеревни собиралось их послушать. Давно это было, еще до войны с французом…
За спиной, рассекая воздух, просвистела ивовая лоза и раздался звонкий шлепок.
— Ой, мамочки! — всхлипнул арестант.
— Садчее, Тимошка, — проворчал Протасов, с неохотой отрываясь от воспоминаний.
Вторая, третья, четвертая… Красные полосы одна за другой ложились на истязаемую спину.
— Жжет, ой, жжет! — прокричал мужичонка после восьмого удара и затих, только постанывая и вздрагивая с каждым следующим.
Спина вспухла, стала кроваво-синего цвета, и лоза шлепала по ней, словно телега по весенней снежной грязи, лихо разметывая по сторонам брызги. Пол возле лавки уже был заляпан сукровицей. Оба подручных, восседавших на жертве, монотонно считали: четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать…
— Вставай! Кончай! — вдруг закричал Протасов, вскочив с лавки.
Все опешили: еще оставалось четыре удара.
— Затирай, канальи! Одевай его! — И сам первым Протасов бросился поднимать арестанта.
Подручные глянули в окно и всё поняли: к ним скорым шажком приближалась сгорбленная фигура в расстегнутой волчьей шубе. На арестанта, на лавку, под лавку было вылито по ведру холодной воды. Подручные елозили по полу с холщовыми тряпками.
— Только попробуй пожалуйся. — Протасов погрозил мужичонке пучком розг и закинул их на печь. — Я тебе четыре оставшихся таких закачу — мир невзлюбишь.
— Простите христа ради, ваше благородие: век за вас бога молить буду, — покачиваясь, пролепетал спекшимися губами мужичонка, все еще не пришедший в себя после экзекуции.
— Прощу, коли молчать будешь. Хоть и не по закону это — тебя прощать, да, вишь, у нас не лекарь, а форменная зверюга, его даже законом не проймешь.
— Спасибо, ваше благородие. — Мужичонка грохнулся на колени. — А что стегали, так того не было, истинный крест не было.
— Не крестись, пока не просят. — Протасов, поморщившись от столь мелкого подобострастия и безверия, отвернулся к окну.
Старый доктор почти дошел до избы приемного покоя, но вдруг остановился, повернулся к церкви и, подумав малость, поспешил в храм.
— Повезло, — облегченно вздохнул Протасов и дружелюбно обратился к уже очухавшемуся арестанту: — И дернул же меня черт за язык. Повезло тебе, считай. За что в каторгу-то идешь?
— На госпожу ездили жаловаться, совсем со свету сжила.
— Да-с, — удовлетворенно качнул головой Протасов, хоть и не понял, в чем вина мужичонки, — такие дела, брат, непозволительны.
2
Федор Петрович прошел мимо конвойных, дежуривших на паперти, и вступил в храм. Белый мрамор стен и столбов отражал в себе горящий золотом иконостас. Гааз привычно скользнул взглядом по иконописным лицам.
Гааз выхватил картину над алтарем — воскресение спасителя, взлетающего из гроба в багряном хитоне. Ниже — обритые наполовину, понурые головы сильно каторжных и такие же понурые, но лохматые других арестантов. И повсюду веточки ивы в приподнятых руках, дремучий вербный лес шелестит и веселит душу.
«Как бы я хотел видеть вас счастливыми, — крестясь, думал Гааз о своих подопечных. — Я тогда тоже обрел бы покой и счастье. Почему так несправедливо устроен мир? Одни выдумывают себе жизнь, в которой надо влюбляться, красиво одеваться, много смеяться и в полночь ходить друг к другу кушать, а другим оставляют лишь то, чего лишили себя, — труд и страдания».
Взгляд старого доктора остановился на проповедовавшем протоиерее. Ему, судя по ярко-розовому здоровому цвету лица и подтянутой, ладно скроенной фигуре, было не больше сорока лет. Черная шелковая ряса элегантно, словно древнегреческий хитон, обрисовывала его плотное нервное тело. Федор Петрович слышал, что этого попа привез из Петербурга флигель-адъютант его величества, присланный инспектировать московские тюрьмы. Еще не прошло и недели, как они в Москве, а петербургский священник вошел в моду в великосветских домах на Тверской и Пречистенке. Поговаривали, что он сочинил пасторское увещание преступников, приглянувшееся самому государю императору.
Читать дальше