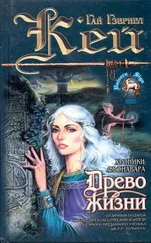— Надумаешь продавать, дядя, знаешь, куда обратиться, — как бы между прочим обмолвилась бригадирша и обеими руками надвинула шлем. Молча оседлала мотоцикл, заляпанный весенней грязью и летней пылью, окуталась дымом. Вслед за фыркающим Ижем с лаем бросился Саргис.
Будто только этого ждали, уставились на песика женщины.
— Охотничья, етаритай, говорю вам, бабы, охотничья! — клялся Линцкус, пританцовывая то на одной, то на другой ноге.
Женщины не желали верить, что этакий клубок шерсти — и глаз-то не видать! — способен выследить кабана пли даже уссурийскую собаку.
Удивила соседок и жалоба Елены, как сложно кормить этого песика.
— Молоко разогревать? Барский желудок!
— Я и детям шоколадных не покупаю, а тут собаке! — дивилась другая.
— Что ребенок, что щенок, пока маленький, все одно, — терпеливо втолковывала им Елена.
Только жена механика поверила ее словам. Для прочих и сама Елена была из того же мира, что и странная собачка.
Поохали, жалея Петронеле, поахали из-за коровы и сада — это же столько добра пропадает! — и разбежались по своим делам, обещая заглянуть, посильно помочь. У Лауринаса увлажнялись глаза, не знал, как и благодарить, хотя галдеж этот мешал ему побыть наедине с последним, не успевшим остыть шепотом Петронеле.
После того как люди разошлись, на усадьбу опустилось сжимающее сердце уныние. Не хватало здесь Балюлене, ее шарканья и стонов, ее не умеющего тихо звучать сорванного голоса. Словно бы ничего не осталось, лишь истоптанная трава, лишь опустевший дом…
— Председатель! — В погасших глазах Лауринаса вдруг засверкали огоньки. Не те веселые, похожие на резвых корольков, но все равно огоньки. Весело ли тебе, горько ли, но посещение председателя — большое событие на усадьбе колхозника. Большое и неизвестно что сулящее.
Да уж вижу, вижу, докладывал отсутствующей хозяйке Лауринас. Крупный, плотный человек в хрустящей куртке коричневой кожи. Из расстегнутого ворота пестрой рубахи лезет наружу могучая шея с незагоревшими полосками складок. Спокойный, даже чуть безразличный взгляд скользит по крышам, деревьям, но замечает и взволнованные лица.
— Слышал, жену в больницу отправил, Балюлис?
И вижу и слышу… Тихий, доброжелательный голос не подходит к могучей фигуре и взгляду. Смотрит так, будто принадлежишь ты не только себе, но и ему. Из-за одного того, что он председатель, что по его приказу люди косят и молотят, Лауринас пустился рассказывать, как заболела жена, по привычке потащил в дом. Председатель отказывался, стесняясь Статкуса, оправдывался занятостью, лучше уж под кленом посидит, дух переведет.
— Хорошее ты дерево вырастил, Балюлис.
Лауринас не поправил — сметал листья со скамьи, — на том свете попросит прощения у Матаушаса Шакенаса. Если достойно похвалы дерево, которого ни поливать, ни удобрять не надо, то разве менее достойны им самим посаженные яблони и груши?
Пока звал Лауринас Елену — не согласится ли похозяйничать? — Статкус с председателем перекинулся парой слов о погоде. Хорошие деньки стоят, что и говорить, но пастбищам и садам не помешал бы и дождик. Елена помыла из лейки перемазанные в земле руки, заспешила к буфету, словно было это ее обязанностью, вписанной в память и гены. Так же нарезала она когда-то ветчину и разбивала яйца в сковородку, чтобы накормить изголодавшегося Йонялиса Статкуса, когда тот вваливался к ним с бурчанием в голодном желудке. Больше всего манил свет на холме Баландисов, но с не меньшей силой — и он стыдился этого! — запах поджаренной на сале яичницы. Ведь тогда, в незапамятные времена, он творил мир, а не мир его, и пустой желудок не имел права так уж громко заявлять о себе.
— Сколько Балюлене, восемьдесят? — Председателю не удавалось отсеять из множества мельком виденных старческих лиц одно, найти то, которому в настоящее время причитается если не особое уважение, так, по крайней мере, внимание. Когда случалось ему заглядывать на эту усадьбу, к задымленному кухонному оконцу приникал перехваченный косынкой лоб. Блеклое пухлое лицо. Ни разу не вышла стол накрыть, все сам Лауринас. Казалось, не от страха или смущения прячется старая в своем закутке, нарочно, и он не очень задерживался, хотя тут было чисто, а чистоты ему, городскому человеку, не хватало.
— Скоро по дому тосковать начнет, хоть и старая. Надоест казенная похлебка, яички величиной с кукиш! — храбрился в присутствии председателя Лауринас, выставляя на стол поллитровку.
Читать дальше
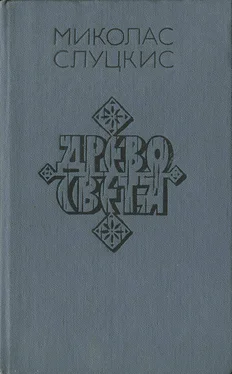

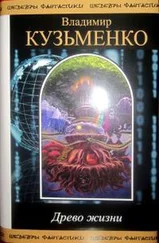
![Миколас Слуцкис - Волшебная чернильница [Повесть о необыкновенных приключениях и размышлениях Колобка и Колышка]](/books/33933/mikolas-sluckis-volshebnaya-chernilnica-povest-o-n-thumb.webp)