Карандаш хранился в старом саквояже. Грохот и дым, которые, казалось, уже вжились в само существование и пронизывали собой каждую клетку пространства, со временем прекратились. Саквояж часто перевозили с места на место, то швыряя его небрежно, то подвешивая в состоянии покоя, словно в невесомости. Карандаш не чувствовал человека, тот как будто растворился или окончательно потерял себя в тех буднях, которые он проживал за кого-то другого. Грустные женщины, львы и далёкие планеты, оживавшие когда-то под рукой и грифелем, теперь казались неуместной шуткой и издёвкой, ведь они задумывались частью вечности, на деле же скончались скоропостижно.
Старая древесина оправы потрескалась, обнажив часть графитового сердечника. Карандаш прожил достаточно долго, чтобы более не жаждать новых свершений, он схоронился в месте, лишённом света, времени и памяти, ненужный и не обладающий никакой миссией.
Ещё лишь только один, последний краткий раз карандаш увидел свет дня. Его достали из саквояжа сухие жилистые руки, с застарелыми мозолями, пахнущие горьким табаком и краской. Это был человек, его человек, почти неузнаваемый, далёкий. Хозяин грустно ухмыльнулся находке и, прежде чем продолжить жить, достал чистый лист бумаги и приложил к ней старый грифель. Линии заиграли под его рукой. Оттенки пе
ремежались друг с другом, человек знал, что делает, но сердечник не вмещал в себе акта творения, лишь подчиняясь механическим движениям. Закончив, человек посмотрел на рисунок. Бескрайний океан, парусник на его поверхности и огромный кит-косатка на глубине. Исполнение было прекрасно, но ни судно, ни кит не плавали в этих водах, они всего лишь были нарисованы, а океан плескался в рамках листа, лишённый свободы. Нахмурившись и будто приняв какое-то важное решение, человек открыл окно и резким движением выбросил старый карандаш. Тот глухо упал на сырую землю, спрятавшись в траве, и на этом его жизнь закончилась — он стал ненужным.
Александр Секацкий: «Поэзия Киры Османовой тяготеет к акцентированной ритмичности, поэт пишет, избегая того, что можно определить как «обыкновенное поэтическое», таких соблазнительных завитушек, которые (всегда есть на это надежда) сами сложатся в некую поэтическую фигуру, сами скажут за себя то, чего и не предполагал автор. Но у Киры Османовой доминирует принцип полной ответственности за речь — то есть мы имеем дело с экзистенциальной поэзией. Пожалуй, самой трудной, ведь здесь любой избыток пафоса легко способен разрушить всю постройку.
Может, какие-то ветки как нужно не выросли, выглядят детскими;
Может, иные — кривые, тяжёлые, попросту лишними кажутся.
Перед нами стволовая, стержневая поэзия, и чего в ней точно нет, так это лишних, кривых ветвей».
«В голове стрекочет вновь камера…»
В голове стрекочет вновь камера,
Выбирает общий план медленно:
Я на сером берегу каменном
Строю башню для моих демонов.
Было время и без них, было же.
Надо как-то одолеть прочее.
Строю башню из камней вымокших,
Неприступная она, прочная.
Я уже на землю шарф сдёрнула.
Я молчу, но говорю будто бы:
«Выходите из меня, тёмные.
Вы теперь снаружи жить будете.
Я вам больше не приют, чур меня;
Я утратила вконец мужество.
Я устала вас в себе — чувствовать…»
Снято. Можно наложить музыку.
И меня лишили здесь выбора.
Ты прости, береговой наигрыш.
Это только говорят: «Выболит!»,
А на самом деле — нет, знаешь ли.
«Такое бесконтрольное желанье …»
Такое бесконтрольное желанье —
Коснуться и услышать —
Всегда не вовремя, всегда на грани,
Всегда как будто слишком.
Во мне мгновенно мраморные скалы
Покрылись редким снегом;
И ревность вышла из меня и стала
Отдельным человеком. Она случилась.
Я её не знаю. Какой нелепый ребус.
Сухая, потемневшая и злая.
Ты видишь? Это ревность.
Когда молчать не хочется, молчится
Особенно красиво.
А снег лежит: невероятный, чистый,
Местами даже синий.
Со временем становишься картиной,
Ландшафтом, и не больше.
И если говоришь — то примитивно
И про одно и то же.
И думаешь — откуда я? куда мне?
И лес на скалах срублен.
Когда внутри — пронзающие камни,
То жить, конечно, трудно.
Правдами и неправдами
Держишь удар.
Это однонаправленность: «Только туда!»
Неинтересны прочие;
Нет их порой.
Это сосредоточенность.
Самоконтроль.
Мысль неотступно вертится,
Долгая мысль:
«Мне до сих пор не верится… Кто это — „мы“?»
Все нутряные чудища, Кажется, спят.
Я ничего не чувствую.
Только тебя.
Читать дальше


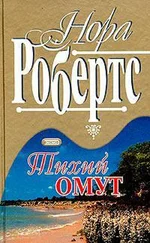




![Анна Князева - Девушка из тихого омута [litres]](/books/396140/anna-knyazeva-devushka-iz-tihogo-omuta-litres-thumb.webp)




