Рука человека дрожала. Он сильнее хватался за карандаш, как за поручень в трамвае, но никак не мог унять эту дрожь, стремительно теряя равновесие души и рассудка. Всё то, чем он доселе так тонко чувствовал вибрации мироздания, пришлось выкинуть или изменить. Уплотнить свои моральные рецепторы настолько, чтобы через них не могли просочиться запахи крови и дыма, что окружали его теперь.
«Я маленький человек в этом хаосе. Я вижу здесь порой, как ломаются сильные люди, и это наполняет меня таким страхом, от которого я не могу ни думать, ни двигаться. В детстве я твёрдо знал, что должен стать отважным и доблестным. Это кажется величественным ориентиром, но вместе с тем простым и достижимым — потому что это правильно, быть таким. Но я им не стал, ведь доблесть не поддаётся мне, а сила и отвага не приживаются в моём естестве, оно не подходит им по размеру. Я утешаюсь той простой мыслью, что доблестные люди тоже имеют право на страх, и их так же щемит от неуверенности и сомнений. Но очевидное их преимущество — в осознании собственного предела, в примерном понимании, в какой же точке находится тот рубеж, перейдя который они окажутся надломленными. Моя беда как слабого человека в том, что я не могу представить, где мой собственный предел, и потому мне приходится ждать его наступления всякую минуту. Это так жутко, пристально вглядываться в каждый момент бытия, пытаясь различить в нём шаг в пропасть».
Время совершенно потерялось в пространстве. Карандаш давно не точили. Его грифель затупился, стал округлым и мягким, и практически не показывался из древесины. Человек сильно истощился. Казалось, что эмоции утомили его, и он стал отмахиваться от них всякий раз, как они пытались завладеть его сознанием. Всё его нутро устремилось к равнодушию, осознав, что это единственный способ пережить происходящее. Многое из того, что вызывало отторжение, стало привычным, а то, что ужасало, — превратилось в досадный дискомфорт.
Впоследствии карандашу приходилось писать странные и непривычные вещи. Его наконец заточили отрывистыми движениями, пройдясь по грифелю безжалостным лезвием, и заставили перечислять боеприпасы, писать даты, фамилии, ставить плюсы и минусы, распределяя чьи-то судьбы. Как-то вечером, в грязном и сыром воздухе, пока вокруг бегали и суетились люди, человек написал на сером мятом листе под спи ском неизвестных фамилий: «Распоряжение: расстрелять». На секунду огрубевшие пальцы дрогнули, условным импульсом пытаясь отвести от себя реальность, но и эта эмоция была умело погашена. Карандаш перестал чувствовать хоть что-либо, что бы исходило от хозяйской руки. Казалось, будто его человек заперся где-то внутри самого себя, оставшись один на один со своим протестом, не выраженным и никем не распознанным.
Лишь раз он позволил себе вытащить себя наружу и самым небрежным почерком, быстро, покуда он сам себе не воспротивился, написать ещё одно письмо, которое никогда не будет отправлено. Карандаш к тому времени уже истощился на две трети, следы сжимавших его когда-то зубов истёрлись вместе с заводской краской. Он стал грязным и потрёпанным, огрызком, выброшенным в пыль дороги жизни.
«Мыши скребутся втихомолку, по ночам, не желая быть услышанными, но наверняка осознавая, что делают что-то плохое. Внутри у меня тоже скребётся, только это не мыши, и красть у меня нечего. В детстве я думал, что должен быть смелым и доблестным. Я им так и не стал, а вся мораль, которую ты, мама, успела во мне вырастить, оказалась под прессом войны. Порой я думаю, что проявил гибкость, но на самом деле я просто оказался раздавлен и теперь сную между осколками, уверяя себя, что это естественная среда обитания. И эти осколки, остатки, эти щепки скребутся внутри меня, неприятно щекочут и царапают. Они никак не могут угомониться, потому что не растворились во мне, не исчезли, но очень, очень устали от своей ненужности».
И после этого человек совсем не брал карандаш в руки. Он писал другими инструментами, сухо и по делу, не проводя через них своё сердце, как через знакомый коридор, чтобы в конце него открыть дверь в комнату, наполненную содержанием. Он избавился от этого свойства, как и от всего, о чём напоминал ему старый огрызок карандаша, купленного в про шлой жизни, когда он заканчивал школу полным жизни юношей. Жизни, которая выплёскивалась через край, стремилась найти выход вовне и, наконец обретя его, озарила своим явлением мир. Теперь человеку было неловко и мерзко вспоминать об этом, как будто он стыдился себя нынешнего. Так грязный нищий смущается в присутствии ухоженного господина, срамясь того, что не нашёл в себе сил обрести хотя бы малейшее достоинство и помыться. Срамясь, но так и не пытаясь найти этих сил, исподтишка лелея злобу на ложный источник собственного стыда.
Читать дальше


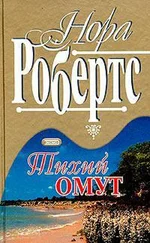




![Анна Князева - Девушка из тихого омута [litres]](/books/396140/anna-knyazeva-devushka-iz-tihogo-omuta-litres-thumb.webp)




