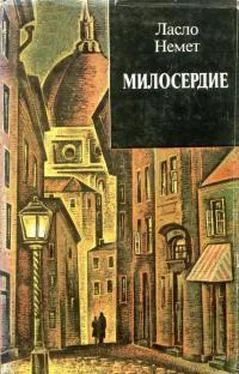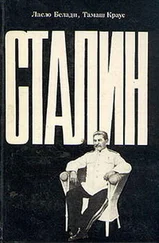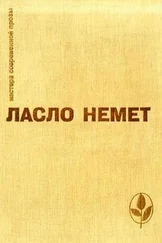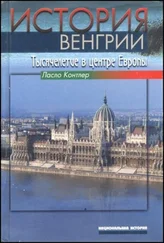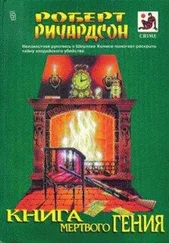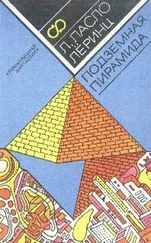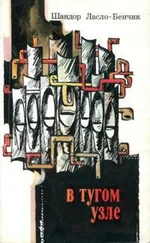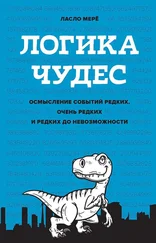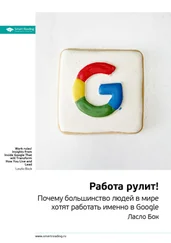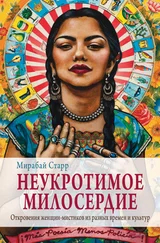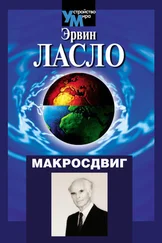Даже на этом шаблонном социальном и моральном фундаменте Ласло Немет находит возможность выстроить богатый, живой мир. Портрет неверной жены — настоящий психологический шедевр. Поздний расцвет, наивная и потому обезоруживающая ложь, которой она, словно фиговым листком, прикрывает свой «грех», ее не поддающееся разумному объяснению упорство, а с другой стороны, искренняя материнская любовь, в которой она видит, может быть, последнюю нить, связывающую ее с «нормальным» миром, — все это даже без глубокого анализа душевных мотивов делает этот человеческий тип необычайно жизненным. А поскольку любовная связь содержит в себе и разоблачительный момент (будучи в возрасте за сорок, она любит пустого молодого человека двадцати восьми лет), она становится особенно удобным объектом беспощадного психологического анализа, мастером которого был Ласло Немет. Муж, бывший пленный, — достойный антипод своей жены. Семь лет лишений основательно перестроили его сознание. Усталая его память цепляется за опыт, приобретенный в плену, сопоставляя с ним новые впечатления; постепенно он акклиматизируется на родине, но и теперь лишь боязнь насмешек ставит преграду его привычным, почти уже маниакальным рассуждениям. Растерянный разум его и семейный кризис воспринимает с большим опозданием; пойти с женой на открытый разрыв он не способен и предпочитает пассивно терпеть, пока его отталкивают в сторону; он не хочет сжигать мосты за собой, цепляясь за призрачную надежду с таким же наивным самоослеплением, с каким госпожа Кертес цепляется за свою ложь. Это не трусость, а естественная слабость сломленного чувства собственного достоинства, утраченная уверенность в себе и в пошатнувшемся мире. «Физически» вернувшись домой, учитель гимназии Янош Кертес для полного «возвращения» не находит ни сил, ни возможностей. Его прежний мир сгорел в огне революций, и восстановление его — по возвращении на родину — идет с огромным трудом. Участвовать в этом процессе сознательно и энергично он не может: во-первых, для этого он слишком утомлен и измучен, а во-вторых, слишком прочно усвоил демократию лагерей и тюрем, слишком свыкся с положением человека вне общества. Подлинное возвращение стало бы для него реальным, если бы дома его ожидало то, что он оставил семь лет назад. Однако его сословие — сословие живущих на жалованье служащих — стало жертвой стремительного процесса инфляции. Так писатель через кризис семьи Кертесов помогает яснее увидеть сущность эпохи: убогая, смешанная с недоверием торжественность встречи пленных на вокзале, нищета, разлагающая учительский коллектив, куда возвращается Кертес, — все это не только фон типичной послевоенной семейной драмы, но и ее объяснение, ее перспектива.
Однако где-то в середине романа писатель поднимает нас на новую высоту, откуда в новом свете предстает и все сказанное в первой части. Сначала читатель замечает в повествовании все больше эпизодов, отступлений, которые — сами по себе будучи содержательными и яркими — не связаны органично с семейной драмой Яноша Кертеса. Еще более бросается в глаза односторонность нравственных оценок. «Господи, что же это такое, человеческая душа? Неужели она так проста?» — комментирует Агнеш один из наивных маневров матери. Однозначный взгляд автора на супружескую измену был бы слишком уж упрощенным. Роль, отведенная в романе Агнеш, в какой-то степени объясняет подобное отношение: ведь Агнеш любит в отце с детства хранимый ею в душе идеал, а потому ее непримиримость к матери, ее бессильная боль вполне понятны. Но почему Немет доверяет вынесение приговора именно ей, почему смотрит на семейную драму ее глазами? Новая высота в романе позволяет ответить на этот вопрос. Студентка-медичка Агнеш Кертес — не просто наблюдатель разлада между родителями: в ее позиции воплощен «фокус» некоего более масштабного подхода к действительности, она — главная героиня более широкой коллизии, в контексте которой грустная история ее родителей — лишь часть ее жизненного опыта, один из факторов, формирующих ее личность, ее сознание, ее отношение к миру. Когда мы начинаем понимать это, роман словно обогащается новыми измерениями. Агнеш и сама оказывается перед выбором в любви; рядом с ней проходят разнообразные типы, характерные для той эпохи, она становится свидетелем разнообразных по содержанию и по цели столкновений между людьми, принимаемых ими решений, а главное, участницей тех скрытых и явных споров, тех поисков, в которые поколение двадцатых годов втянуто памятью о недавней революции, пробужденными ею надеждами и действительностью контрреволюционной эпохи.
Читать дальше