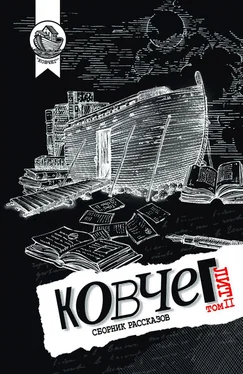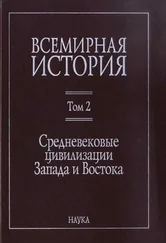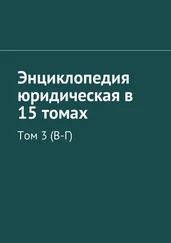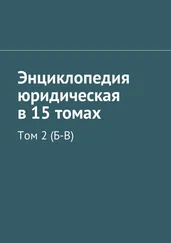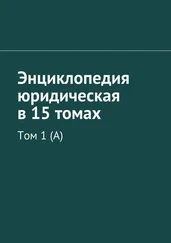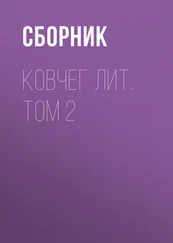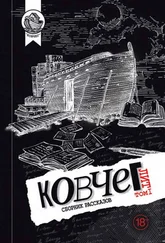— А на «Новый Восток»? — схитрила многоопытная кадровичка. Обдурила дураков, и пошли мы на «Восток».
Люся работала в рыбацком магазине. Губы алые, коса пшеничная… И ходили мы с Сашкой в этот магазин по два раза в день. Тогда и стали звать Сашку Адмиралом, он тогда еще на светлое будущее надеялся и начал лотерейные билеты покупать:
— Вот увидишь, выиграю машину, и тогда мы с тобой — кум королю. И все Люси наши будут!
Сашкино суденышко списали полгода назад, никак на гвозди не продадут. И сидит Адмирал в своей боцманской каюте и хлещет самогон, пропивая все, что можно пропить. Скоро и на гвозди нечего будет отправлять. А выпив, грозится увести судно в море. А что будет в море… и в Австралии, — мы не думаем, говорим, перебивая друг друга, пока не настанет пора идти за самогоном. Идти недалеко — рядом с причалом хибарка, в которой баб-Маня все гонит и гонит самогон, пропитав самогонным духом одну-единственную комнатушку с маленьким окошком. Все никак не напьются досыта рыбачки. Оплела их баб-Маня долгами, будто паучиха, но орава ее детей-голодранцев так и не стала сытнее, а хибара — хоромами.
— Что-то ты слишком веселый, — колыхнув животом, сказала баб-Маня, вынося мне бутылку.
— За границу уезжаю.
— Знаю я вашу заграницу, когда вперед ногами выносят. Адмирал совсем на ладан дышит, уговорил бы ты его подлечиться, а то помрет и долг не отдаст.
— Ничего, Манюня, вот выиграет миллион и рассчитается.
— Рассчитается… на том свете угольками.
Адмирал пытался еще сходить к баб-Мане, прихватив с собой фал на продажу, но свалился на шконку и замер — маленький и худой. Я же поднялся на корму и стал жадно глотать морской воздух.
Поднял глаза и посмотрел на мутное солнце, светившее сквозь пепельные облака, — и знакомо заныло в затылке, как частенько бывало у меня в море, когда мы оказывались в районе Рыбачьих островов.
Ловилось там неважнецки, но всегда был штиль, и наша плавбаза уходила туда на время шторма. Измотанные качкой, мы выползали погреться на солнышке и таращились на черные голые камни, торчащие из океана. Там впервые и заныл у меня затылок.
— Урановые горы, — сказал тогда наш боцман Генка Горностай.
А я вдруг отделился от собственного тела и полетел над водой, прочь от его голоса. Уже зарябило, заблестело в глазах от черных камней, того и гляди — упаду на них… пришел в себя — корчусь на палубе, а Генка сидит надо мной, беломорину курит.
— Заработался парень, не по тебе море, ломает оно тебя.
Выдумал ли он про урановые горы, чтобы не уронить свой авторитет бывалого моремана, или нет, не знаю. Но стоило мне оказаться возле Рыбачьих — и ломило затылок, и бился я головой о палубу, летая над черными пальцами гор. Потом и на берегу, случалось, летал.
Стоял я на корме одинокого адмиральского суденышка и вдруг поднялся над самим собой — маленьким и жалким, раскинул руки и взмыл высоко-высоко, весь вытянулся, аж тело радостно заныло, захрустели косточки.
…Мать гладит меня по голове шершавой ладонью, а я беспомощно уткнулся носом в ее живот, на лоб капают большие капли молока, и вот я нахожу ртом сосок, и молоко, теплое и жирное, вливается в меня. Мать поднимает меня на руки, но я вырываюсь, расту и улетаю, улетаю…
И вместо палубы увидел я полы — горбыли ослепительного желткового цвета. Такими они бывали, когда мать отмывала их рано утром в субботу, ожидая моих братьев и сестру, которые по выходным съезжались в наш маленький поселок в северном Казахстане. Потом мать уходила их встречать, а я крался на кухню, хватал кусок хлеба и котлету с большой зажаренной сковородки и бежал во двор, а там задами, задами до гнутого непогодой и раскореженного молнией тополя.
Там ждал меня Вовка, прозванный Опытным Карандасосиком, мой самый верный и первый друг.
Он был маленький и щуплый, обгоревший под солнцем, с обкусанными заусенцами и красными полосами заед в уголках рта — оттого, что ел все, что попадалось, съедобное и несъедобное: корешки, насекомых, молодые побеги ивы, кончики травинок, в школе грыз ручки и карандаши.
Учился он на два класса младше меня, в школе его дразнили и недолюбливали за его промысел. Заливал он норы сусликов, а потом продавал шкурки, откладывая деньги на платье матери, теть Клаве, тощей казашке, работавшей в нашей школе техничкой. Когда Вовка был в настроении, то рассказывал о том, как купит ей платье, и оно сделает ее молодой и красивой. А мне почему-то представлялось платье громадного размера, безнадежно повисшее в нашем магазине, цветастое и пропахшее пылью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу