Подходил к концу май; Кашпарек так полюбил свое новое занятие, словно всю жизнь ничем иным и не занимался; полюбил не только из-за собак: когда он с семью подопечными проходил по утренним улицам, не было человека, кто бы не остановился, не оглянулся бы на него с улыбкой; Кашпарек тоже улыбался в ответ, улыбался доверительно и немного лукаво, как человек, который только и думает о каком-нибудь добром розыгрыше; но в одно прекрасное утро он обнаружил, что у Лохматки началась течка. По ней еще нельзя было ничего заметить, но Бруно, когда он, восторженный и бесшабашный, влетел, как обычно, в компанию, вдруг как будто совсем ошалел и, невзирая на окрики и укоры Кашпарека, устроил вокруг пули такой танец, такой каскад сумасшедших прыжков, что нельзя было не понять: дружеские его чувства к Лохматке переросли в неудержимую страсть; тут-то Кашпарек и заподозрил неладное и обстоятельно осмотрел суку. Опасения его подтвердились. В тот день Кашпареку еще удалось благополучно доставить хозяевам вверенных ему собак, потому что в Лохматке пока только набирало силы новое состояние; но старик понимал, что часы целомудрия Лохматки сочтены, и в тот день, если бы нашелся какой-нибудь человек, кто обратил бы внимание на душевное состояние старого мусорщика, он наверняка поразился бы, с каким озабоченным и встревоженным видом выполняет свои обязанности маленький старик в синей блузе. Кашпареку и в голову не пришло сообщить о своем открытии докторше и дней десять-двенадцать не брать у нее Лохматку: роль свою при собаках он считал немного похожей на роль деревенского свинопаса при стаде, а потому и улаживание любовных взаимоотношений между питомцами рассматривал как свою прямую задачу.
То, чего он боялся, случилось меньше чем через неделю. От Лохматки исходил запах любви, и кобели в своре просто-напросто обезумели. Самым страстным влюбленным был Бруно, он даже подрался с Джипси на этой почве; неразлучные фокстерьеры рычали и скалили зубы друг на друга; слава богу, Нестор, как видно, считал, что участвовать в мелочных спорах — ниже его достоинства; правда, однажды, выбрав момент, он попробовал было взять Лохматку неожиданным приступом, однако ей надменный боксер, очевидно, не нравился, и она так яростно отстаивала свою честь, что Нестор счел за лучшее не претендовать на нее и с высокомерной флегмой сильных самцов ушел в свое гордое одиночество. Кашпарек, наблюдавший все это, был готов от души пожать ему лапу. И решил пока держать Лохматку на поводке, чтобы она на всякий случай была рядом; однако Бруно и теперь не отходил от нее ни на шаг, носился и прыгал вокруг, задыхаясь от страсти, и тявкал коротко, жалобно, со слезой в голосе, а потом лег неподалеку, на склоне насыпи, положил голову на передние лапы и, с отчаянием в желтых глазах, протяжно заскулил. «Чего ревешь-то? — ворчал на него Кашпарек. — Не стыдно тебе?! А мужик еще! Видишь ведь, наша Лохматка чихать на тебя хотела!» Кашпарек взглянул на Лохматку, чтоб убедиться, действительно ли она чихать хотела на Бруно, — и сердце у него сжалось. У Лохматки уши, хвост — все тоскливо повисло, она стояла возле Кашпарека, как больная старуха в черном тряпье. «А ты-то чего пригорюнилась? — говорил он теперь пули. — Влюбилась, что ли? В этого вот оболтуса, тощего да плаксивого? Погляди на него: он ведь желтый, да и голый почти что! Это шерсть, по-твоему? Не грусти, отведет тебя хозяйка к настоящим кобелям, получишь такого чернявого красавца, что любо-дорого! Слышишь?»
Лохматка не слышала; она не хотела ничего слышать. Кашпарек ее уговаривал, чесал за ухом, гладил бока — все напрасно: она оставалась бесчувственной и глухой. Когда Кашпарек тянул ее за собой, она покорно переходила на новое место и опять стояла с опущенной головой, ушами, хвостом. У нее даже шерсть была не лохматой, а обвисла, будто намокла. «Обиделась? — сказал старик, чувствуя тяжесть на сердце. — Что мне с тобой делать, глупая? Меня же хозяин твой со свету сживет, если я волю вам дам». Лохматка медленно подняла голову и на него посмотрела. Самое странное, что Кашпарек не видел ее глаз, лишь некий неясный блеск в густой шерсти. И все же он видел их: Лохматка смотрела на него с таким упреком, с такой человечьей болью, что старик не выдержал и отвернулся; но тут он увидел глаза Бруно; лоб легавого с недоуменными складками был само разочарование и удивление, словно пес не мог уразуметь, как это он — именно он, Кашпарек! — может столь жестоко поступать с ними; и тогда старик вдруг нагнулся и отцепил поводок с ошейника пули.
Читать дальше
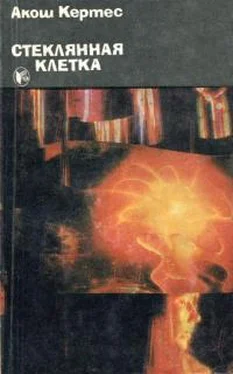










![Кэролайн Ли - Стеклянная женщина [litres]](/books/431805/kerolajn-li-steklyannaya-zhenchina-litres-thumb.webp)