Мы еще не сказали о том, в каких условиях жил Кашпарек; а условия эти тоже заслуживали бы внимания, если хоть кто-нибудь счел бы необходимым уделить внимание старику. Кашпарек жил, по милости местных властей, на участке, который считался бесхозным и даже номера не имел (так что Кашпареку в удостоверение личности вписан был адрес соседнего двухэтажного дома, и официально Кашпарек числился квартирантом у живущей в этом доме древней старухи); на участке этом, расположенном между задней глухой стеной двухэтажного дома, железнодорожной насыпью и лугом, принадлежащим одной южнобудайской сельхозартели, Кашпарек еще лет десять тому назад отгородил себе небольшой лоскут земли, со всех сторон обсадил его кустами сирени, а в середине соорудил — из кирпича, жести, досок сносимых домов — хибарку; домик был мал, но прочен и со знанием дела защищен от дождей и сырости: когда-то Кашпарек работал и у каменщиков, подручным, и успел у них многому научиться. На участок этот никто не претендовал: ни железнодорожники, ни сельхозартель, ни другие организации; его миновали все кампании по городскому благоустройству, и Кашпарек мог надеяться, что несколько лет, еще отпущенные ему, он проживет здесь спокойно. Сюда и привел старик пули — а поскольку боялся, что та выроет лаз под оградой, и без того не слишком надежной, или найдет еще какой-нибудь способ сбежать, то сразу завел ее в дом.
Лохматка обнюхала помещение, потом уселась у ног Кашпарека и подняла на него взгляд; больше здесь нет никого, только мы с тобой, сказал ей старик, правда, есть у меня еще внук, да не здесь он, далеко где-то; он взял голову пули в ладони, откинул челку у нее с глаз; Лохматка внимательно глядела на него, ожидая, видно, еще объяснений, но старик молчал; ему стало досадно, чего он вздумал вдруг вспоминать это как раз сегодня, когда он собаку привел; за долгую свою жизнь он усвоил, что нельзя позволять себе воскрешать минувшее и давать волю чувствам, и давно уже научился как можно реже думать про ту круглолицую, белокурую женщину, что была когда-то его женою (разумеется, она не была ни черной, ни маленькой, ни растрепанной, как ему всегда нравилось, а крупнотелой и блондинкой), и про сына с пушистой головкой, что когда-то, давным-давно (должно быть, всего в восьмимесячном возрасте), сидел у него на руках и, повизгивая, тянулся ручонкой к его волосам; он встал, чтобы приготовить еду и заодно выкинуть все это из головы. Внука он вообще никогда не видел, потому что пришла война и, одев его в униформу, принялась бросать по странам, дорогам, фронтам, конюшням, госпиталям, чужим городам, пока однажды вдруг не наступил мир и Кашпарек не обнаружил, что от жены и от сына его отделяет государственная граница; потом он долго скитался по каким-то приемным и пыльным, сумрачным канцеляриям, где стояли запачканные чернилами столы, висели пестрые плакаты и непонятные лозунги и где ему объяснили, что и как нужно сделать и куда еще обратиться, скитался до тех пор, пока не получил от жены письмо, из неразборчивых строк которого узнал, что в ее постели спит другой мужчина; тогда он перестал ходить в канцелярии, решил: пусть остается все как есть. Сын однажды приехал к нему на «шкоде» цвета слоновой кости, совсем взрослый, чужой; по-венгерски он говорил еле-еле, Кашпарек же забыл словацкий, они почти не понимали друг друга; Кашпарек, правда, знал, что человек, если хочет, может даже с собакой найти общий язык, но в данном случае он предпочел не навязываться. Потом сын уселся в свою машину цвета слоновой кости и уехал, оставив фотографию внука и подарки: тренировочный теплый костюм, штормовку, спортивные туфли, ботинки, пуловер и сверкающий термос; подарки лежали рядком на столе — красивые, новенькие, с запахом кожи, резины, с фабричным запахом, вещи, в которых не было ничего от того ребеночка с пушистой головкой, пахнущей молоком, что когда-то сидел на руках у Кашпарека и, лепеча что-то, дергал его за волосы.
Кашпарек покормил Лохматку и стал заниматься делами по дому, разговаривая с собакой обо всем на свете; когда солнце стало клониться к вечеру, он устроил ей подстилку в углу (правда, пули ею не воспользовалась, предпочитая лежать посредине комнаты, откуда все могла видеть), потом запер дом и отправился убирать мусор, как делал каждый день в течение многих лет.
В 19-м «А», где жила Дези, консьерж встретил его сообщением, что другой консьерж, из 19-го «В» (где жила пули), передал: пускай лучше Кашпарек не приходит туда убирать мусор, потому что «шум будет». Кашпарек молча кивнул и отправился было дальше, но консьерж задержал его: «Как там вышло-то у тебя, расскажи!» Кашпареку не слишком хотелось рассказывать, но он не мог удержаться и упустить возможность поговорить (в кои-то веки его попросили об этом!), когда тебя слушают, да еще с таким любопытством; и он повторил историю, придуманную для докторши, ту самую, что так и не смог рассказать ей до конца. «Да ведь ты в стельку пьяный был, а, старик?» «Черта с два пьяный! — сердито пробурчал Кашпарек. — Это докторша была пьяная!» И рассказал, как барыня открыла ему с бутылкой в руке, как стала его угощать, чем до того его удивила, что он рот раскрыл; консьерж долго хохотал, а потом сказал, что собаки эти у него вот где, от этих тварей одна только пачкотня. Кашпарек не был с этим согласен, но спорить не стал, чтобы сохранить расположение консьержа.
Читать дальше
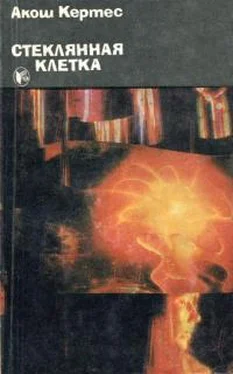










![Кэролайн Ли - Стеклянная женщина [litres]](/books/431805/kerolajn-li-steklyannaya-zhenchina-litres-thumb.webp)