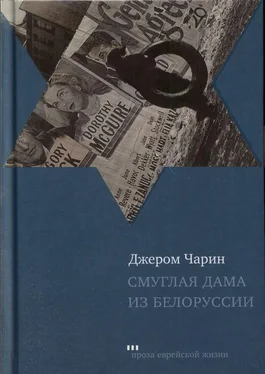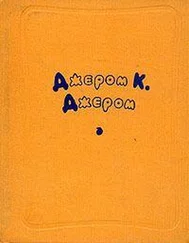— Я знал, Липпи, я знал. Ты бы не стал грабить государственный склад… Но все равно, давай быстрее, Большой Берни вот-вот придет!
— Да пускай приходит, — сказал дедушка, и мы встали у двери ждать, когда появится Большой Берни.
Теперь он узнает, каково угодить в засаду! Это было как в Голливуде, даже круче! Не прошло и минуты, как Большой Берни постучал в дверь.
— Открывай, Бенни, — сказал он, — я знаю, что ты здесь. Не заставляй меня вышибать дверь.
Дедушка кивнул, и я открыл. Когда Большой Берни увидел нас вместе с Лео, он, наверное, решил, что сорвал банк.
— Вы арестованы! — завопил он. — Оба!
Тут на сцену вступил дедушка, и оказалось, фасон он держит круче всех в мире. Он просто вышел, скрестил руки на груди и сказал:
— Этих мальчиков не трогать!
Большой Берни, видать, решил, что перед ним шеф полиции, потому как сразу попятился к выходу. А дедушка все на него наседал.
— Склад, говоришь? Брешешь, ублюдок, подлец. Погоди, узнает о тебе капитан Рабиновиц из центрального участка, дождешься! Он живо с тобой разберется. И с Бронксом ты, сынок, распрощаешься. Зашлют тебя во Флэтбуш [43] Флэтбуш — часть Бронкса (одного из пяти районов Нью-Йорка), заселенная выходцами из Карибского региона — Гаити, Ямайки, Барбадоса и т. д.
. Все у ребят отобрал и себе, небось, паразит, присвоил. Даю тебе десять минут: принесешь обратно все, что украл. Десять минут, а потом я звоню капитану Рабиновицу.
И дедушка взглянул на часы.
— Отсчет пошел. Один. Два. Три…
Поджилки у Большого Бенни затряслись, и он
скатился с лестницы.
— Зейде, — спросил я, — а кто такой капитан Рабиновиц?
— А я знаю?.. Я его выдумал!
Мы с Лео стали считать секунды и досчитали до ста девяноста семи, когда Берни вернулся с небольшим вещмешком. И вывалил все из него прямо на пол, а сам все еще дрожит. Когда Лео осмотрел трофеи, дедушка, подмигнув мне, сказал Берни:
— За тобой еще десять сигар и три пары чулок… А теперь выметайся!
Берни понял, чтобы дедушка ничего не говорил Рабиновицу, и убрался.
Теперь он на всю округу ославится. Дедушка помог мне сложить все обратно в попрыгунчика, а Лео спросил:
— Где мама?
— Ой. Совсем забыл, Липпи. Она у Шварци. Скоро будет.
И мы с зейде и Лео на радостях пустились в пляс и запели:
— Аз дер ребе Элимелех
из геворн зейр фрейлах,
Из геворн зейр фрейлах
Элимелех… [44] «Если ребе Элимелех веселился, / Уж он веселился вовсю» ( идиш ).
Тут дверь отворилась и вошла мама.
— Что это вы так разошлись?
Увидела Лео, подбежала, поцеловала:
— Лео, Лео… Ты не заболел? Температуры нет? Точно, Лео?
Она так его тискала, словно они друзья не разлей вода, но через минуту уже вцепилась ему в волосы — и пошло-поехало.
— Целую ночь не ночевать дома! Да сколько ж это может продолжаться! Ой-ой!
Лео повезло, что дедушка был рядом, а то бы ему точно крышка. Дедушка успокоил маму, увел в кухню. Травил ей похабные анекдоты на идише, а она хохотала.
— Ша, зейде… Мальчики услышат.
Дедушка знает потрясные анекдоты про студента ешивы и жену раввина. Мама достала терку, картошку и объявила:
— Мальчики… латкес!
А мы с дедушкой и Лео стали плясать вокруг нее и петь:
— Эсен, мир геен эсен… [45] «Есть, мы идем есть» ( идиш ).
Минут через десять оладьи уже испеклись. Ух, до чего ж я был голодный!
По всей Европе маршировали фашисты, и я прямо-таки видел, как они пересекают Атлантику, захватывают Эмпайр-стейт-билдинг и проводят маневры в Центральном парке.
— Мэнни, — твердила мать, — поступи в торговый флот или на завод оборонный.
Но я сидел дома.
Фил подбивал ехать в Новый Орлеан. Мы с ним недавно окончили школу и до погрузки на корабль и отправки на фронт у нас оставался месяц, может, два. Будь у нас в запасе десять лет, мы бы — в чем мы ничуть не сомневались — стали такими художниками, каких свет не видывал.
— Месяц, — говорил Фил, — дайте мне месяц в Новом Орлеане, а потом уж забирайте.
Он хотел, чтобы я поехал с ним, но я сроду даже на день из дома не уезжал, и мне было страшно. Новый Орлеан — это где-то на краю света, казалось мне.
— Мэнни, — убеждал Фил, — кто знает, где мы окажемся всего через три месяца? Похоронят нас где-нибудь в Африке.
Он был прав, но я все равно не решался.
— Фил, — отвечал я, — охота рисовать — рисовать можно и в Бронксе.
В общем, он уехал один.
Я сидел дома, ни с кем не общался, а при звуках воздушной сирены мое сердце всякий раз замирало и ухало вниз, в утробу, ища укрытия. Страшное дело! Я не мог ни рисовать, ни есть, вообще ничего делать. А примерно неделю спустя пришло письмо от Фила.
Читать дальше