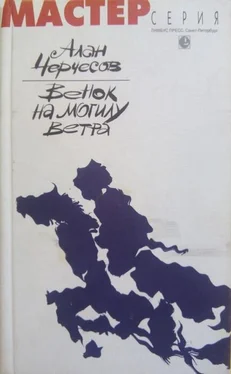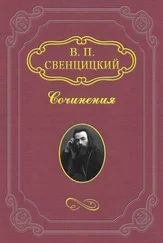Радостной стала и грусть. Он подумал, что Бог — это старый мошенник, хитрый и мудрый, могущественный и не лишенный озорства. Столетие за столетием, внушая безраздельное к себе почтение, Он вынуждает угрозами небесной кары служить Ему сообразно десятку совершенных истин, которые потом в один прекрасный день шутя выметает из озадаченных душ расторопной метлой. Великий умелец притворства, до поры до времени Он прикрывается смертью, как спиной преданного раба, таясь за ее торжественной поступью и тяжелым дыханием, а потом вдруг стряхивает с себя паутину ее дряхлых одежд и окунается — сильный, нагой, почти молодой — в звенящую свежесть солнечных волн. И тогда вдруг становится ясным, что Он — это жизнь, у которой нет никакого предела, потому что никакой предел не может ее исчерпать, никакая смерть не может ее укротить, обуздать и сломить, пока Он плещется в ее сверкающих водах. Вот и все. Вот и все, что о Нем надобно знать, когда идешь с Ним на встречу.
Я шел к Нему сорок лет, размышлял Ацамаз, и за весь этот срок видел столько горя и неудач, столько бесплодных потуг и смертей, что мне никогда не понять Его до конца. То, например, откуда в Нем столько жестокости. На что Ему было сеять месть и бесчестье там, где уже сторожили друг друга зависть и злоба? Зачем было искушать меня борьбою и проверять на прочность мой дух? Зачем творить легенды и плодить бесконечные беды для простосердечия тех, кто им доверял? И почему, по какому такому умыслу Он уничтожил аул, оставил склепы, проклял реку и потерял интерес к опороченной Им же земле? А спустя три века Он о ней вспомнил и решил приютить беглецов, меня и двух новых пришельцев, чьих общих грехов с лихвой бы хватило на то, чтоб нас уничтожить. Но вместо того Он дал нам надежду и новую веру в Себя. Как Ему удалось? И что Он хотел нам внушить? Какой урок?
Думать об этом было непросто. В самих вопросах, похоже, таилась неправда. Она заключалась в том, что Тот, о Ком он думал, человеком все-таки не был, и оттого мог позволить себе полнейшее равнодушие к ответам на них, как, собственно, и ко всему остальному, кроме того, что по неведомым причинам возбуждало в Нем любопытство, столь непостижимое, сколь и очевидное, когда дело касалось тех, кто уже много месяцев пользовался Его высочайшей милостью в попытке обустроить свою судьбу в соответствии со своими желаниями.
Ответов на вопросы не было. Ясно было одно: теперь Он уже не смерть, а жизнь, и жизни дозволено все, если она полюбила. Когда она любит, она готова украсть, сбежать, изменить и даже отречься.
Любя, они подвергали жизни опасности, размышлял Ацамаз. Но рисковать своей жизнью было легче, чем ею пожертвовать, оставаясь при этом в живых, а потому пример Алана был, пожалуй, главным из всего, чему они у себя научились. С Софьей было сложнее: она пошла на жертву ради сестры. Согласилась поменяться с нею местами, зная, что знают об этом все, и самый первый — тот, кто любит не ее, а ту, что ему изменила.
Поступок Софьи подарил им гордость за самих себя. Причастность к нему они доказали, согласившись презреть свою совесть во имя тех, чья безоглядная любовь, по счету этой самой совести, заслуживала лишь проклятия. Заслуживала, — но только не здесь, не у Проклятой реки, которая постепенно, луна за луною, рассвет за рассветом, внушала им, что жить под присмотром у смерти означало не только к ней неизбежно привыкнуть, но и испытывать диковинное, стоическое удовлетворение от того, что ты можешь явиться к ней в гости, посидеть в ее пыльной тени, подышать ее желтым молчанием, а потом вернуться обратно, — как если бы жизнь и смерть нашли вдруг общий язык, и за время неспешной беседы обе стали покладистей. После вчерашнего ливня жизнь, похоже, перестала бояться совсем. Теперь она рвется на волю, — ни дать ни взять, застоявшийся в конюшне жеребец.
Не то, подумал Ацамаз. Мне лезет в голову всякая мешанина. Лучше уж размышлять о другом. О том, например, как я обрел наконец здесь покой…
Сегодня он чувствовал в себе такой редкостный мир, будто долго-долго болел и метался в бреду, а когда снова очнулся, вдруг обнаружил, что вокруг очень светло и юркая ласточка вьет гнездо у него на груди.
До вершины было уже очень близко. Войдя в расселину последней скалы, он осторожно преодолел пространство тревожной прохлады, по опыту зная, как легко в полумраке наткнуться на жало змеи. Все обошлось: норы остались нетронуты, и только стекавшая по стенам слизь обдала его запахом разложения. На свету запах исчез, уступив теплым парам с хорошо прогретой земли вперемешку с сухими корнями, по которым карабкалась в гору раздвигающаяся тропа. Еще два или три поворота — и я у цели, сказал он себе.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу