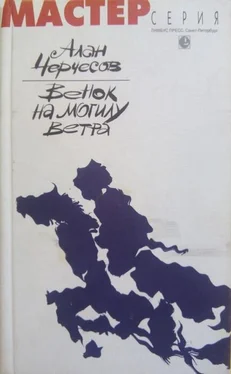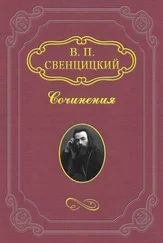X
Алан ушел еще прежде, чем Тотразов дом обзавелся соломой на крыше. Одолжив у Хамыца коня, он объяснил, что едет в крепость за семенами. Вряд ли кто-то в это поверил. Он был весел и возбужден, как человек, принявший важнейшее для своей судьбы решение, о котором никто не должен знать — до той поры, когда не узнать о нем будет уже невозможно. Стоя во дворе, женщина глядела на него не то печально, не то хмуро, а может, встревоженно. Когда он, вскочив в седло, поднял коня на дыбы и с радостным гиканьем сверкнул на нее глазами, ей стало вдруг стыдно и страшно. Вернувшись в пустой и, казалось, следивший за ней отовсюду хадзар, она присела на край скамьи, коснулась пальцами своих высохших губ, погрузилась в раздумье, запуталась в нем, потом больно вздрогнула телом. Зрачки ее лихорадочно заблестели, а на устах длинной, порочной бледностью проступила улыбка. Женщина снова двигалась, но как бы сама себя не замечая. Посновав от стены к стене, она замерла, пронзенная желтым лучом из окна, дошептала скомканные заклинаньем слова, гордо вскинула подбородок, сощурилась на мелькнувшую по кладке стены тень, распознала в ней свое будущее, вдохнула его смелыми ноздрями, быстро подобрала юбку и, пав перед ним на колени, впервые за много месяцев излила на пол обильные крови.
Наведя чистоту, она напилась воды, завернулась от холода в шкуру и, подогнув колени, прилегла на нары. Несмотря на жару, ее бил озноб, зубы мелко стучали, а по позвоночнику бегали цепкие муравьи. Проспав до полудня, она проснулась с ощущением спокойного парения, только что перебитого звонким кнутом, и почувствовала себя раненой птицей, провалявшейся без сознания и с заломленными крыльями в тухлом дупле. Луч прижался пальцем к подоконнику и подвернул напротив стены изнанку порога. Выпутавшись из шкур, она выглянула наружу — удостовериться в том, что мужчины все еще хлопочут на стройке. «Пять дней, включая этот, — сказала она сама себе. — Им тоже хватит. Потом я умру». Мысль ее не расстроила.
Проверив жеребенка, она сходила к реке за водой, нарвала трав для отваров, разложила сушиться по низкому настилу дома, пообедала копченым мясом, взяла острогу и вновь пошла к реке. Побив немного форели, вернулась в дом, раззадорила угли в очаге, утопила рыбу в золе и села у огня на корточки. Когда рыба запеклась, она попробовала ее на вкус и, передумав, швырнула за дворовый плетень. Спустя четверть часа — пока женщина управлялась со сложенным под навесом хворостом и переносила две охапки его в хадзар — в траву заныряли пятнистые коршуны, похожие в подлете на подросших ежей. Боясь спугнуть, она смотрела за их охотой из-за дверного косяка, подмечая заодно, как чуть дальше по холму настилают стропила на крышу.
Той же ночью она услыхала шаги. Распятая на нарах, кусала губы и обливалась потом, расчесывая пятками постель и постигая собственную низость. Шаги потоптались во внешнем приюте двери, подумали в кромешной тишине и, не решившись войти, тихо удалились. Наутро на приступке она увидела подмятый близорукой ночью пучок полевых цветов, перетянутый жилкой травы. При свете дня жизнь резко сменила запах на дух сухой земли с политого солнцем двора вперемешку с навозной дымкой из-под затрусившего прочь жеребенка. Во всех своих членах женщина ощущала приятную нетрудную усталость, как после долгой упорной любви. День застыл над горой, оперевшись о посох терпенья, и не желал никуда уходить. Она обманывала его работой, рутинным шепотом песен и праздными загадками одиночества, подкрепляя их окаменелостью поз, тягучестью дремотных мыслей и лживым покроем надежд, но он томил ее до самых сумерек, которые тут же окрасил по краям горящим румянцем заката. Перед тем как раздеться, она выставила за порог свою тень, подержала ее под струей сквозняка, бросила взгляд на звезды и уронила на землю слюну, заворожив ее молитвой. Спала она глубоко, погрузившись на гулкое дно подземелья с двумя факелами из глаз, в которых отражалась покоем тяжелая вода. «Осталось три дня», — подумала она, едва распахнув ресницы, и неспешно пошла по уже знакомой тропе к новому вечеру. Он был нежен, застенчив и долго дышал за стеной свежим добрым дождем. Крови теперь досаждали ей меньше, и оттого можно было весь сон напролет, коротая постную ночь, предаваться медленному греху.
Когда настелили крышу, она натаскала в дом побольше речной воды, согрела ее на огне и, обнажившись, стала купаться в корыте, млея от близости яркого послеобеденного солнца и надвигавшейся неизбежности того, что непременно должно было произойти с последним наступлением темноты. Вспомнив, что завтра умрет, она даже повеселела, потому что смерть ее была лишь ничтожной ценою за то, что ей предстояло. Это как дань благодарности. Готовясь к неминуемому свиданию, она испытывала безраздельное счастье, которого не ведала никогда до того. Оно действительно могло быть всеобъемлющим и полным, если за ним ничего не стояло: ни боль предстоящей разлуки, ни отрава сомнений, ни наивность надежд. Все уместится в одну только ночь, вслед за которой не должно быть более встречи со светом и временем. Иначе оно их убьет. Стоит только пустить его, время, красться по дому и вынюхивать ночные следы, как оно обязательно сочинит вину и придумает муки для совести. Сейчас этих мук еще не было: таясь за плечом ожидания, совесть благоразумно молчала, ибо была слишкОхМ бесплотна, слишком нелепа, невзрачна в сравнении с молодым здоровым телом, лежащим в воде и впивающим благовония искренних трав, брошенных на алтарь искрящегося светом корыта.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу