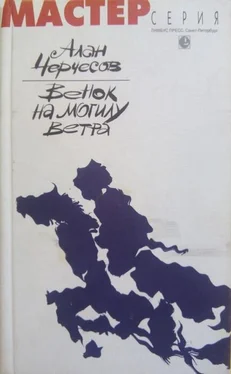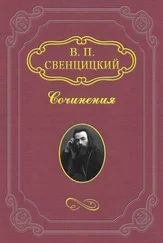С той поры, как он принял крещение от реки и полой безымянной смерти, такого с ним не бывало. Окончательно наскучив вечности, он был отпущен ею на мелкую волю дней, в прозрачную ограду времени. Оно росло и дышало с ним рядом, все больше отбирая у него тело женщины, грузневшее день за днем с такой неизъяснимой поспешностью, что, казалось, ей не дождаться весны. По ночам ему снились кошмары о том, как ребенок рвет ее плоть железными пальцами. Проснувшись, он стыдился того, что во сне его ненавидел. Женщина наблюдала за ним внимательно, но отстраненно. Порой она пыталась вернуть им давешнюю близость, однако мужчина, даже в минуту подступавшего наслаждения, не мог избавиться от ощущения чудовищности совершаемого греха, так что вскоре она отчаялась что-либо изменить. Плечи его, такие высокие прежде, чуть опустились, добавив ему лет, лишь бы только легче было прятать глаза и притворяться, что он не боится. На ярком свету в погожие дни глаза начинали гноиться, и мужчина сильно страдал от зуда на веках. Она лечила его своей слюной, перемешанной с золой от свежего огня.
Чем больше она с ним возилась, тем легче ей давалась беременность. Иногда ей казалось, что живот перестал расти вовсе. Тогда она принималась усиленно есть, поглощая подряд копченое мясо, вяленую рыбу, поджаренную на жирном сале дичь, сушеные коренья и подмороженные лесные ягоды в таких количествах, что вызывала у себя свирепые приступы рвоты и почти тут же — досадливую брезгливость к мужчине, неловко хлопотавшему вокруг ее отвращения к самой себе.
Холода долго не унимались, а потом вдруг разом им на ладони упала весна. Снег невесомо таял в руках и превращался в обманчиво ленивую воду, стекавшую сквозь пальцы быстрым временем. Солнце било в глаза и заново обживало горы, ложбины, ручьи, постепенно подбираясь к тяжелой печали леса. Женщина подставляла под грубые лучи лицо и с каким-то чувственным удовольствием отдавалась их проникающим сквозь запертые веки прикосновениям. Иногда мужчина заставал ее обнажившей плечи и грудь, с распростертыми навстречу солнцу руками и с выражением пойманного блаженства на влажных губах, и тогда, пронзенный острой ревностью доказанной измены, он бессильно сжимал кулаки, как вор заглядывая в ее чуть обожженное лицо с закрытыми глазами. Чем ближе подступало тепло, тем труднее было ему сносить множившиеся муки. Все реже соглашаясь дожидаться его в пещере, женщина упрямо вызывалась идти с ним на охоту или к реке. Живот ее, такой большой, тяжелый, откровенный, такой чужой в сравнении с той плоской душистой упругостью, что так возбуждала его еще сотню дней назад, казалось, ничуть ей не мешал — ни лазать по горам, ни карабкаться по тропам, словно был он принадлежностью не плоти, а одежды, — что-то вроде подвязанного к пояснице скатанного в трубу одеяла. Вместо того чтобы застенчиво присмиреть и вникнуть в брожение внутри себя, жизнь в ней и вовсе забила ключом, и теперь, спрятавшись рядом с ним где-нибудь в колючем кустарнике, женщина требовала от него разрешить ей пальнуть самой, а когда ей доводилось попасть, он замечал в ее глазах новый и злой восторг, от которого ему, мужчине, делалось не по себе. Вслушиваясь по ночам в ее ровное, сильное дыхание, он вдруг с неприятным удивлением подмечал в нем оскверняющие нотки урчания, будто в ней жил трудный разговор двух различных существ, встретившихся, чтобы поспорить о чем-то таком, к чему сам он не имел ни малейшего отношения. Его действительно стало меньше — даже для самого себя.
Порой ему казалось, что она не слишком нуждается в нем, и тогда он хотел уйти, сбежать навсегда из пещеры в растворившую створки тумана весну и снова стать тем изначальным, первым человеком, каким он был еще недавно. Но чтобы сделать это, у него не хватало трусости, оставить же все как есть мужчина тоже не мог, ибо уже не верил в то, что для нее — не лишний. А потому, едва начали чернеть в прогалинах тропы и стаял в кори-стую пенку снег, он приказал ей собираться. Смастерив широкие салазки на острых дубовых полозьях и густо смазав их жиром, он уложил пожитки, усадил посередке женщину, привязал ее кожаными ремнями к днищу саней и пустился в путь.
Глядя сзади ему в спину, она думала о том, что перевала им не одолеть: либо сани рухнут где-нибудь с обрыва, либо надорвется насмерть он. Чего ему хочется больше, она не знала, но знала, что должна терпеть. Иногда, чтобы не изводить его молчанием, она принималась негромко подпевать монотонной дороге, которая могла бы быть для них куда как легче, если бы он позволил женщине идти самой. Только ему зачем-то понадобился соперник. Он что-то пытался ей доказать, и было это плохо. Было это как предательство, потому что любовь ничего не доказывает. Любовь просто любит. Однако хуже всего было то, что теперь женщина и сама сомневалась, любит его или нет. Держа на коленях его исходящую паром шапку и отрешенно следя за тем, как он рвет впереди себе жилы, она обнаруживала, что ей почти противен его упрямый, похожий на плошку затылок. Раньше она этого не замечала, и оттого теперь все чаще мучилась вопросом: а куда подевалось от них это «раньше»?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу