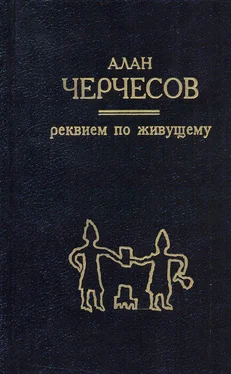Шли годы, и она занимал их все меньше. А его самого все меньше занимал волк. С виду Одинокий вроде как успокоился. Звериные схватки случались реже и реже, а потом перешли в непостоянные, вялые и почти бесстрастные стычки. Волк здорово поумнел и, хотя не отказался от мести, решил, как видно, повременить, дождаться подходящей минуты, когда у врага притупится бдительность, и вот тогда-то действовать наверняка. Дразнить его по настоящему Одинокий уже ленился. Случалось, он исчезал из аула на несколько дней, только направлялся не в крепость: давно уже никто не замечал, чтобы он ехал верхом по Синей тропе. Зато его частенько видели переходящим мост и идущим в сторону лесистой горы, где, поговаривали, облюбовал он какую-то пещеру. Только, опять же, ни один из наших воочию в том не убедился, так что дальше домыслов в своих предположениях они не продвинулись. А впрочем, он ведь их уже не слишком-то интересовал.
Конечно, пока он отсутствовал, находились и такие, кто старался ему насолить. Например, отравить его волка, в ненависти которого он все еще нуждался, хотя и позволял ей дольше обычного сидеть на цепи. Но выяснилось, что и волк у него какой-то особенный. И в нем сидел какой-то прозорливый бес, благодаря нюху которого зверь ни разу не притронулся к подкинутому к его носу и влажному от яда хлебному мякишу. Ну а потом кто-то из них по возвращении Одинокого обнаружил поутру в своем курятнике с полдюжины закоченевших кверху лапками птиц, и тогда они разобрали, что мякиши обладают способностью досаждать тем, кто их лепил, и после уже не пробовали, тем более что весь тот день Одинокий провел на нихасе, словно задался целью всем и каждому показывать свою довольную ухмылку, а вечером они увидели, что волку перепало столько мяса, сколько утолило бы голод волчьей стаи, будь она хоть о ста головах. Тут они поняли, что допустили оплошность, предоставив Одинокому возможность действовать и отвечать на их неугомонность. И решили отомстить ему полнейшим равнодушием, пусть только внешним, но строго соблюдаемым всеми и непременно подчеркиваемым нарочитой вежливостью к его неприкаянности. Это не было заговором. Просто как-то разом все осознали, что вести себя надо именно так; не назовешь же заговором первый день весенней пашни потому лишь, что на нее выходит весь аул, если перед тем каждый хозяин самолично глядел в небо и вдыхал запах земли! Вот и здесь все получилось тоже как бы само собой, и теперь — свершись даже чудо и пожелай он вдруг избавиться от своего одиночества — у него бы не вышло. Пожалуй, он чувствовал безысходность наступающего из будущего и глухого к его мукам времени, как чувствовал ее распинаемый на кресте, когда его руки ковали к доске стальными гвоздями. И чтобы выпеть из себя эту безысходность, он смастерил из сосновой ветки свирель. В закатные часы она звучала, как жалоба подраненного красной тьмой и затухающего света, истерзанного то ли каждодневной пыткой умирания, то ли предательством уползающего за горный кряж солнца. В его свирели не было мелодии: в ней не было рисунка, завершенности или хотя бы приемлемой для слуха округленности. В ней даже не было начала и конца, а — один лишь плеск непрестанного продолжения дурной длительности, скребущей по нервам слушателя наивной шепелявостью, что постоянно не дотягивала какого-то малюсенького, крошечного мига до ясного, гулкого, славного вскрика, давным-давно вызревающего в ее беспредельном унынии. Заслышав ее робкое вступление, предвещавшее всем нам долгое и незаслуженное, в общем-то, страдание (дабы его заслужить, надо бы для начала наделать столько грехов, чтобы тебе назначили пройти всю преисподнюю, и только потом, говорил дядя, доказав, что тебе и ад нипочем, по собственной воле — ибо и на том свете нет такой жестокости, которая бы тебе это повелела — попросить Одинокого посвистеть на дудке), младший брат моего отца начинал сокрушаться: «Уж если мне кого и жалко больше своих ушей, так это Лохматого... Видать, теперь оно у них заместо драки: один воет, другой — дудит. Да и как тут не завыть, когда тот даже уже не душит, чтобы доказать тебе твою звериную слабость, а просто дудит в самую морду, словно плюет в твое бессилие! Бедный вол чара! Небось, проклял себя за то, что не родился глухим...»
Так что когда Одинокий снаряжался на недельку в лес, поглядывали на него даже с некоторой благодарностью. И все твердили о какой-то пещере, хоть никто ее никогда не видал.
Я мечтал отыскать ее с самого детства, покоренный ее непривычной таинственностью и заранее сладко напуганный тем, что мне в ней предстоит найти. Иногда, набравшись смелости, я отправлялся за ним вслед, но успевал потерять его спину еще до полудня, а потом, сверяясь по сделанным моей рукой зарубкам, брел назад, к хмурому взгляду отца или встревоженному веселью матери. Я повторял свои попытки, несмотря на суровые предупреждения, и отказался от них лишь тогда, когда заблудился однажды настолько, что он вдруг вырос передо мной, выступив из-за дерева, и устало спросил: «Чего ты хочешь?» Застигнутый врасплох, я бросился наутек и бежал, разодрав одежду и исцарапав ветвями лицо, до самого дома. В тот раз даже не было взбучки. А потом, ближе к ночи, я услыхал голоса: «Выходит, он с ним таки повстречался...» — «Зато теперь все позади. Больше он за ним не пойдет». И я подумал: «Она права. Больше я за ним не пойду. Пропади он пропадом, как я от него бежал!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу