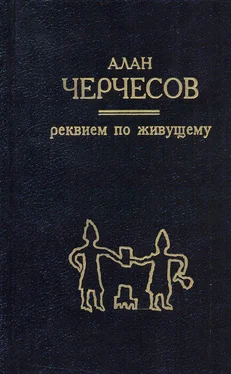В общем, отец почти достиг того, к чему стремился. По крайней мере, заставил себя не заглядывать за соседский забор, где томилось поруганное неудачами, но все еще гордое одиночество, стоически продолжавшее терпеть людскую ненависть, опаску или нелюбовь, в которые постепенно, говорил мне дядя, вкрапливалось оскорбительное чувство брезгливости. «Как-то шарахался от него, как от чумного. Видать, слишком долго он ничего не делал. То есть не совершал ничего эдакого, что могло бы их поразить или, на худой конец, озадачить. Это раздражало. Как раздражало их по ночам вытье волка, которого он привел к себе в дом в середине зимы, узлом подвязав ему вместо ошейника край башлыка, намотанного им на раненую руку и уже насквозь пропитавшегося бурой кровью. Так они и шли по метели — человек, одолевший напавшего на него зверя, и бесившийся от запаха его крови униженный хищник, в остервенении лязгающий клыками и ловящий ими лишь снежную пустоту, не в силах дотянуться зубами до кулака, прижатого к его уху. А потом он посадил его на железную цепь во дворе и взялся приручивать...» Только приручивать — неверное слово. Скорее, он его покорял. Или дразнил. Или покорял да дразнил разом.
Обычно он даже его не кормил, а кидал ему в морду какую-то кость, не позаботившись при этом хотя бы о миске с грязной водой. Он мог не кормить его с неделю, а потом вдруг швырнуть ему огромный кус парного мяса, чтобы у волка от жадности, когда он все сожрет, разболелись слепившиеся с голодухи кишки. Он издевался над ним так, словно добивался получить из него настойку чистейшей, всепоглощающей, самозабвенной ненависти, а когда ему казалось, что зверь созрел, он снимал с него цепь, и волк бросался на него в дикой, задыхающейся от его близости ярости, целясь мордой точно в шею, чтобы перегрызть горло и навсегда расправиться с обидчиком, который порешил не только не превращать его в послушного пса, но и вовсе не губить его волчьего духа, чтобы растравить его до последней вскипающей жилки в крутой, с горбинкой, груди, а после схватиться с ним и побороть в нем все волчье, врезаться пальцами в лохматую глотку и вынудить его жалко, по-собачьи, скулить, запросив о пощаде. А потом опять его не кормить, изводя своим запахом его чуткие ноздри больше, чем рассеянным по воздуху вкусом съеденного обеда. А потом опять дать ему обожраться, наблюдая, как голод сменяется в волчьем желудке страданием утолившейся жадности. Потом выждать еще сколько-то дней и снять с него цепь, ступив в очередную схватку с прыгучей бешеной ненавистью только затем, чтобы, рискуя жизнью, вновь сдавить пальцами ее клокочущую глотку и услыхать, как она заскулит...
Все это вызывало у наших отвращение. И, думается мне, истинная причина его была не в том, что они видели (а видели они свирепую, противную возню двух обезумевших существ, в снегу, грязи или пыли выясняющих степень своего животного достоинства — именно что животного и только животного, ибо человек в нем на это время словно отмирал — быть может, для того, чтобы битва шла на равных, презрев все уловки и хитрость, презрев всё, кроме голой ненависти, или потому, что он подспудно, заранее знал: никакому человеку не дано столько раз подмять под себя зверя, из оскорбленного сердца которого рвется к шее врага бушующая злоба целой волчьей породы. А может, животное потому только в нем и просыпалось, чтобы отдохнул человек?..), а в том, что, несомненно, чувствовали: он стал так слаб, что поддался искушению сцепиться с ненавистью в рукопашной. Как бы там ни было, а следившие за ним и волком аульчане ненавидели его, не любили или опасались теперь даже более рьяно, чем раньше, и если на нихасе к кому-то из двоих и испытывали сочувствие, то явно не к нему, не к Одинокому...
Вдобавок ко всему он перестал навещать могилы. Не совсем перестал, но — почти, как и говорил об этом дядя. Иными словами, ходил к ним столь же редко, сколь нечасто посещали погост те, кто его порицал. Они не искали ему оправданий, а потому не нашли и лучшего объяснения, чем то, что он одичал. О возможном смятении они и не задумывались, ведь им до сих пор было неведомо, как много он потерял. Отец же в их разговоры не встревал, отец мой уже устранился. С жестокостью справедливости он спасал свое невмешательство и плодил детей, рассчитывая на целебную свежесть огороженной им гладкой заводи, способной, как он полагал, излечить его от недуга воспоминаний и бывшего порочного родства с отъявленным неудачником, которого наши все еще принимали за везучего юродивого, развлекаясь своей к нему неприязнью и его на нее глухотой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу