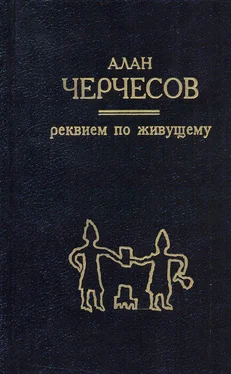Она отошла к окну, задернула плотные шторы, но лампы не зажгла. Теперь он видел лишь угловатый очерк на рисунке стены да тусклую размытость лица. По ровному глухому голосу он догадался, что от слез она уже оправилась.
Хозяйка сказала: «В общем-то, он и мерзавцем-то не был. Просто был единственным, кто говорил мне про любовь. Он умел говорить о ней часто и жарко. Получалось немного вычурно, но все же красиво. Ему нравилось о ней говорить, хоть того и не требовалось, чтобы переспать с какой-то уличной девкой. Он приходил ко мне всегда под утро, в одно и то же время. Обычно от него сильно пахло вином и маленькими папиросками. От многих мужчин сильно пахло вином и папиросами, но только ему удавалось пахнуть ими приятно... Еще он никогда не смеялся, не дрался и не кричал. И не сквернословил, будто матерщины отродясь не слыхал. Богатым он не был, однако же платил всегда исправно и скромно, застенчиво эдак даже, оставлял деньги на краешке стола, положив на них сверху цветок из своей петлицы. Он носил белые сорочки и белый цветочек в петлице, а уходя, неизменно клал его сверху на ассигнации, будто извиняясь за то, что платит. О себе он рассказывал, обо мне не выспрашивал, а говорил лишь о любви да красоте. А когда прознал, что я беременна, побледнел, как известь, встал с кровати, оделся молча и стоял передо мной такой торжественный и прямой, словно к портному в витрину собрался. А я все твердила ему, что ничего, мол, от него не желаю, что совсем даже ничем он мне не обязан, и незачем, мол, ему так стоять и уста в линейку сжимать, будто он честью своей, все одно что собственной тростью, давится. А он возьми вдруг мне и скажи: «Я вас люблю, я вас любил и любить буду, а посему негоже мне перед своею совестью и сердцем отрекаться. Вместо того испрашиваю трепетно соизволенья на наш совместный брак!» Вот оно как из него выхлестнулось! Представляешь? Я же слово в слово запомнила, на всю жизнь запечатлела, значит, в душе своей ту минуту волшебную, сладостный, как говорится, миг, когда он на одно колено предо мной припал и голову безропотно склонил, а я ее к себе прижала и гладила, гладила, ласкала ладонью, а от счастья такого мне скулить и кусаться хотелось, словно дворняге бездомной от внезапно подаренной сытости... А потом он поднялся, отвесил поклон (а на щеках уже две красные точки играли, как у чахоточного) , ручку поцеловал и говорит: а теперь, мол, не обессудьте, но должен ненадолго отлучиться. Кинулась я было его обнимать на прощание, а он увернулся и стремительно в дверь вышел, потом застучал каблуками по лестнице (я тогда спаленку на верхнем этаже в гостинице снимала). А по улице — я из окна глядела — мчался, как угорелый. Ну я и подумал тогда же: видать, больше уж нам с ним не встретиться. Видать, обманул меня барин, хоть я его, Бог свидетель, ничуть к тому не принуждала... Весь день проплакала, из комнаты никуда и не вышла, а как стемнело, от слез своих пролитых и заснула. Крепко спала, широко — будто на чистой поляне под солнцем, его, как вошел, даже не учуяла. Пробудилась тогда лишь, когда он лицом своим бледным уже надо мною стоял. В первый миг он мне как чужой показался, что-то было такое во взгляде его, будто подменили, будто болью зрачки подпалили или весь день их на страхе настаивали... Но потом все было как прежде, только во сто крат лучше еще, просторнее что ли — не знаю... И опять он о любви своей говорил и был так нежен, словно руками песню пел. И слезы мои счастливые, как росу с ягод, губами собирал и все мне на ухо шептал слова сладкие. Много их у него было, утонуть можно. К ночи я и утонула — в сон обвалилась, как в громадный колодец. Я падала и падала в него, а он никак не мог насытиться моим падением, и дно все не подступало, и оттого что я падала в бездонный прохладный колодец, было мне хорошо, как в полете...» — «А в груди твоей,— подумал Одинокий,— терзался теснотой восторг — дикий, необузданный, голодный зверь твоей радости...» — «А затем,— продолжала женщина,— стало вдруг тихо и жутко. От тишины я глаза открыла. Он как раз замахивался... Потом во мне разорвался свет. Грозный, бушующий плеск света. Я помню, как он насквозь пронзил мое тело, чтобы дальше уже не было ничего, кроме покоя, мрака и боли. Потом боль куда-то исчезла, и остались только мрак и покой. Потом я утомилась лежать в них и снова открыла глаза, но случилось это позднее. Гораздо позднее.
Уже после того, как я потеряла все: и его, и дитя. Вот как оно вышло! Хотел убить меня, а убил своего ребенка. И деньги все мои стащил, чтоб, значит, на кого иного подумали. Потом, наверно, они ему руки жгли, так что, думаю, швырнул он их где-нибудь в речку или в печи уничтожил. А после сбежал из крепости, боясь, что я его следователю выдам. Но этого я даже тогда не могла. Не то на уме у меня было...» — «Дальше я знаю,— сказал Одинокий.— Ты мне дальше уже рассказывала. И про мышьяк, и про пса...» — «Обожди,— сказала хозяйка.— Я не про то... По правде, не для того я его повсюду искала, чтоб мышьяком отравить. Главное тут другое было — хотя б разок на него поглядеть, в глаза ему заглянуть, чтоб муку там прочитать да раскаянье... Ты не поверишь,— сказала она, помолчав и улыбнувшись,— но у меня к нему до сей поры жалость не до конца истощилась. Живет во мне к нему последней капелькой жалость и сердце мне бередит. И ненависть живет, хоть для нее, казалось бы, тоже срок вышел, как для любви или мести. И обида на него жива, на гнусную его слабость, из-за которой все и стряслось. Ну что б ему не быть хоть чуточку сильнее!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу