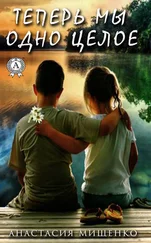Я буду рассказывать
о святой Екатерине Сиенской,
которая родилась в 1347-м.
В младенчестве она
пережила чуму,
но все равно умерла в тридцать три,
потому что
перестала есть.
Типпи говорит, у нее была нераспознанная
анорексия,
но святая Екатерина просто считала,
что ее душе не нужна пища.
Вместо этого она посвятила себя
Богу и молитвам,
отказу от всего телесного
и приобщению к святому.
Порой мне тоже хочется
заняться своей душой,
а не тревожиться без конца
за бренное тело.
Вместо зеленой школьной юбки
Ясмин надела джинсовую мини
и колготки с леопардовым принтом.
Она залила свои розовые волосы лаком
и поставила их волной.
Учителя даже не заставляют ее переодеться,
потому что
сегодня ей исполнилось семнадцать,
а дни рождения для смертельно больных
детей –
это святое.
– Я бы даже могла с кем-нибудь
перепихнуться по случаю праздника, –
заявляет Ясмин и так громко гогочет,
что все, кто есть в классе ИЗО,
поднимают кисточки над водянистыми
автопортретами
и оборачиваются.
Вечеринки не будет, но
Ясмин приглашает нас к себе с ночевкой.
Так мы говорим нашей маме.
А вместо этого
идем ночевать в церковь
под голыми ветвями
и мерцающими звездами,
тайком пробираясь по школьной
территории,
когда там никого не остается.
Когда Джон уходит за красками,
Ясмин показывает открытку:
сердечко в блестках,
а посередине – «ЛЮБЛЮ» завитушками,
как монограмма.
– Это от Джона, – говорит. –
Зря он, конечно.
Я ему уже говорила, что это не для меня.
Мое сердце бьется о ребра,
как будто сзади кто-то снова и снова
врезается в меня
на электромобильчике.
Я отдаю Ясмин открытку,
даже не прочитав.
Свой автопортрет
она нарисовала черной краской,
глаза – крошечные камешки
на слишком круглом лице.
– Ужасно, да?
Не знаю, что она имеет в виду –
портрет или ситуацию с Джоном.
Знаю только одно:
бывают вещи и похуже,
чем быть любимой им,
чем получать открытки,
усыпанные его поцелуями.
– Ты не слишком загоняйся на этот
счет, –
говорит Типпи Ясмин
и хочет добавить что-то еще,
но передумывает
и вместо этого гладит мой бок.
– Ты как? Норм? – спрашивает она меня
позже.
Киваю.
Я – норм.
А потом говорю:
– Сегодня в церкви напьюсь.
Я наблюдаю,
какой он с Ясмин,
но не вижу даже намека на чувства.
Может, она ошибается?
Может, своей открыткой он хотел сказать
что-то другое?
Либо она не права,
либо я слепая,
потому что со стороны
он общается с ней совершенно так же,
как прежде.
Есть не хочется.
От одного вида
перченой курицы на подушке
из желтого риса
меня мутит.
Отворачиваюсь.
– Не будешь? –
спрашивает Типпи,
и я двигаю к ней тарелку
со своей половиной порции.
– Ешь, – говорю,
и она быстро съедает все
за двоих.
Синюшные тучи собираются на горизонте.
– Надеюсь, дождя не будет, а то облом
с днем рождения, – говорю.
Типпи уводит меня от окна.
– Волнениями делу не поможешь.
– А из-за чего вы волнуетесь? – спрашивает
мама,
входя в комнату с охапкой чистой одежды.
– Грейс не хочет, чтобы шел дождь, –
отвечает Типпи.
Мама кладет белье
и берет со стола две грязные тарелки.
– Подумаешь, дождь. Есть вещи
и поважнее. –
И, не вдаваясь в подробности,
выходит из комнаты.
Церковь полнится
стрекотом и визгом
ночных насекомых.
Луна зашла
за тяжелые тучи.
Холод проникает под свитер
и в кости.
Я думала, несколько бутылок пива притупят
мои чувства к Джону,
загонят их в темный чулан,
и я смогу думать о чем-то другом,
о чем-то осуществимом.
А выходит наоборот.
В голове стоит туман слов, которые я бы
хотела шептать
ему здесь, в темноте.
Его лицо сейчас еще красивее, чем обычно,
а его смех заставляет все мои мышцы ныть от
влечения.
Типпи чувствует это, морщится,
потом отпивает вино из почти пустой бутылки
и жует брауни с марихуаной.
Ясмин наигрывает на гитаре песни Долли
Партон
и тихонько поет.
Джон садится рядом со мной на мокрое
бревно.
– Дай-ка руку, – требую
Читать дальше
![Сара Кроссан Одно целое [litres] обложка книги](/books/402813/sara-krossan-odno-celoe-litres-cover.webp)


![Сара Бреннан - Тропа ночи [litres]](/books/392683/sara-brennan-tropa-nochi-litres-thumb.webp)
![Сара Хеннинг - Наследницы моря [litres]](/books/402429/sara-henning-naslednicy-morya-litres-thumb.webp)
![Сара Маклейн - Искушение страстью [litres]](/books/404728/sara-maklejn-iskushenie-strastyu-litres-thumb.webp)
![Сара Орвиг - Почувствуй,что я рядом [litres]](/books/417099/sara-orvig-pochuvstvuj-chto-ya-ryadom-litres-thumb.webp)
![Сара Кроссан - Ириска [litres]](/books/432575/sara-krossan-iriska-litres-thumb.webp)