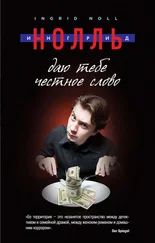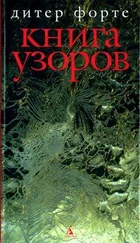— Вечно твоя водка. От такого жадины ничего получше не дождешься!
— Во-первых, — возразил я, — я пью водку, поскольку клинические испытания, проведенные в Англии, доказали, что интенсивность того синдрома, который мы называем похмельем, обратно пропорциональна букету, иначе говоря, содержанию сивушных масел в алкогольных напитках, то есть практически обратно пропорциональна его цене. А во-вторых, я вовсе не жадина. Я просто бережлив, это свойство я унаследовал от своего отца, которому приходилось беречь каждый грош. И наконец, в бережливости есть и хорошие стороны: недаром же нам с тобой удалось многого достичь.
Тут Шарлотта взглянула на меня с улыбкой, которая показалась мне загадочной и странной, и ответила до того серьезно, что я умолк:
— Да, мы с тобой многого достигли, прямо страшно подумать, как много. — И она кивнула мне, грустно так кивнула, и возобновила работу, и не проронила больше ни слова.
Как уже не раз бывало, я и теперь не смог уловить ход ее мыслей. Ее слова, ее взгляд, ее улыбка погрузили меня в раздумья — так, повторяю, уже бывало, и не раз, — но и сегодня, после этой непонятной для меня реплики, Шарлотта прежде всего была удивительно красивой, и мои раздумья сменились чувственным удовольствием, с которым я всегда смотрю на свою жену. Шарлотте минуло тридцать, больше двадцати пяти ей никто не дает; стройная и высокая — сто семьдесят сантиметров, — она ничем, кроме темных глаз, не напоминает своего низкорослого и толстого отца, она удалась в мать, рано умершую, которую я видел только на фотографиях; кстати, может быть, именно поэтому Ланквиц так привязан к своей дочери.
С самого начала и — как ни тривиально это звучит — с первого взгляда Шарлотта покорила меня: и сама Шарлотта, и ее манера ходить, поворачивать голову, и ее густые русые волосы, и бездонные ланквицевские глаза, и выразительность ее черт. Но когда я впервые требовательно, я бы даже сказал, настойчиво, заглянул в это лицо, я уловил в нем ту ускользающую задумчивость, из-за которой между нами всегда оставалась какая-то непреодоленная дистанция, какой-то след отчужденности. Эта отчужденность порой становилась еще сильней из-за выражения грусти, неизвестно почему мелькавшего иногда у нее в глазах. И тогда — вот как сейчас — ее речи начинали звучать со скрытой иронией, совершенно меня обезоруживающей. Впрочем, я, может быть, слишком много приписывал своей жене; ведь обладала же она чувством юмора, возможно, ее отчужденное «страшно подумать, как много» было не более чем шуткой. Откуда я взял, что наша гармонически наполненная, упорядоченная совместная жизнь не доставляет ей такого же удовлетворения, какое она доставляет мне?
— И вовсе я не жадный! — упорствовал я.
Тут Шарлотта рассмеялась и сказала:
— А вот посмотрим. Ты знаешь, что отец любит после ужина выпить хорошего коньячку, ровно сорок граммов. А на Унтер-ден-Линден иногда бывает «курвуазье».
— Будет твоему старику «курвуазье».
С уборкой кухни было покончено. Я откупорил бутылку белого вина, отнес ее в гостиную, затем принес две рюмки. В том, что мы решили провести вечерок за бутылкой вина, не было ничего необычного. Необычной была сама возможность провести вместе свободный вечер.
— Непременно поезжай в Шёнзее, — сказала Шарлотта: — В конце этой же недели. Не жди, пока я вернусь из Москвы. С нового года туда никто не наведывался, и, если в ближайшее время не протопить, там все заплесневеет и сгниет.
— Вот мы и подошли к теме «Москва», — сказал я и укрылся за лишенным выражения лицом, как привык укрываться в студенческие годы, когда не хотел, чтобы окружающие видели, что во мне происходит. Мы подняли рюмки и поглядели друг другу в глаза.
— Я лечу послезавтра, — начала Шарлотта, но, увидев, какое у меня лицо, с досадой спросила: — Ну, в чем дело?
В одном я теперь убедился окончательно: всякая там дипломатия, и тактика, и достижение цели обходными путями — все это неприменимо, когда имеешь дело с Шарлоттой. А что до поездки в Москву, тему можно считать закрытой, я еще днем проиграл сражение. Просто надо поговорить откровенно, это моя обязанность перед Шарлоттой. Осторожно, как бы между прочим, я спросил:
— Кто предложил послать именно тебя?
— Отец, — сказала Шарлотта.
— Кортнер, — сказал я.
Лицо Шарлотты мгновенно окаменело. Но я умоляюще посмотрел на нее, и она вновь расслабилась. Демонстративно зевнув, она отпила вина и сказала:
— Прямо наваждение какое-то. Не будь Кортнера, мы бы с тобой не знали, что такое супружеские ссоры.
Читать дальше