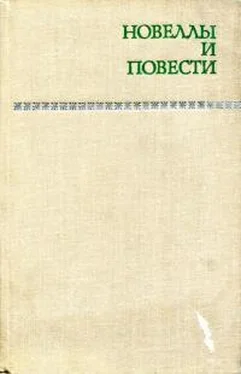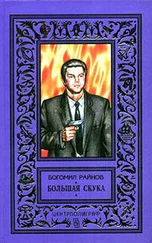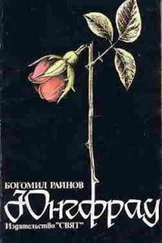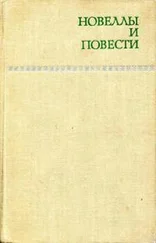Сарайдаров произвел Даринку в «сучку-царицу». Съедение ее он решил отпраздновать шумнее и торжественнее, чем в другие разы, и случай ему в этом помог. На следующее утро отправился он с одним из объездчиков посмотреть на цыган, работающих у него на уборке кукурузы, и во владениях своих обнаружил целое стадо чужих волов, коров и телят. Стадо принадлежало соседу-хуторянину, еврею Ивану Фишеру, «богобоязненному» старцу с окладистой рыжей бородой и множеством дочерей. У половины из них были волосы цвета червонного золота, у другой половины угольно-черные, но у всех умные еврейские глаза и округлые бедра. Молодой Сарайдаров пробовал было швырнуть камень в это болото ленивых и благопристойных барышень, да получил лишь стаканчик чаю с песочным печеньем. Иван Фишер скорее готов был превратить свой дом в приют для старых дев, чем увидеть кого-нибудь из дочерей на сарайдаровском престоле в качестве «сучки-царицы».
Сарайдаров велел отогнать стадо к себе на хутор. Двое пастухов Фишера пробовали было отбить скотину, но Сарайдаров пальнул в них из револьвера, прогнал. Вечер еще не настал, а все это стадо — семь волов, четыре коровы и четыре телки — пало под ножами голодных цыган. Неделю напролет шла гульба в честь Даринки, цыгане из окрестных сел потом животами маялись от обжорства, а Фишер и не пробовал протестовать. Ничего, будущей весной он уж не упустит, накроет на своей земле такое же сарайдаровское стадо и так же велит пустить его под нож, колбасы накоптит, а оставшееся мясо на базар свезет.
Спустя несколько дней родич мой Ричко запряг белую пару и отвез хозяина и свою любимую в Добрич. Тамошний дом Сарайдарова — двухэтажный и просторный, обнесенный кирпичным забором с коваными воротами, — занимал добрую половину квартала на торговой улице; в многочисленных комнатах стоял запах богатства и плесени, полы, по которым человек не ступал месяцы и годы подряд, были усеяны дохлыми мухами. А тут мухи, завидев юную «царицу», вроде бы разом воскресли, заполнили комнату жужжанием, запах плесени сменился ароматом духов.
Сарайдаров набрал новую прислугу — кухарку, эконома и сторожа, определил на службу и двух цыганок, которые не мыли и не убирали, а только «делали ветерок» вокруг ее величества. Днем, если захочет она отдохнуть, цыганки вставали по обе стороны ее ложа, одна веером отгоняла мух, другая махала простыней, создавая прохладу.
Несколько дней Сарайдаров провел в спальне своей юной царицы, а Ричко маялся в грязной пристройке и, как всякий романтик, видящий свой идеал в чужих руках, проливал слезы в приступе «мировой скорби». Но романтики на то и романтики, чтобы лить слезы по любому поводу, они глядят на мир влажными коровьими глазами и думают, что мир этот по-коровьи кроток и смирен; и если задуматься, слава всевышнему, что они не перевелись, а то бы мир остался без коров, а коли не будет коров, не станет и молока!.. По дороге на хутор Сарайдаров заметил эту его скорбь, а когда молодые скорбят, пожилые становятся еще старее и подозрительней; он положил на плечо Ричко руку и вот тогда-то и приказал ему до особого распоряжения не бриться и не стричься. Этак через пару лет волосы и борода возницы, пожалуй, достигнут пояса, и от этого девятнадцатилетнего чудовища будут шарахаться и дети и собаки. Но видно, Сарайдаров забыл, что его возница пролез под вороным жеребцом и что он самолично назвал Ричко настоящим мужчиной…
За три дня до того, как мне родиться, объездчик Доко встретил в каменном карьере моего отца. Мать Доко, тетушка Трена, была повитухой, и от нее он слыхал, что я непременно буду мальчишкой. Свернув цигарку, он сделал глубокую затяжку, не в состоянии скрыть своей радости:
— Ну, значит, будет у тебя на этих днях парень! Будет, кому у вас скотину пасти. Поздравляю, значит!.. Ежели в самом деле родится мальчишка, гляди, без магарыча не обойтись.
Папаша мой молча ворочал камни, будто поздравления эти его вовсе не касаются. В доме все чаще начали поговаривать о моей особе, готовились меня встречать, а папаша вместо радости испытывал стыд, прятался от людей. Он был первым и не последним по счету человеком, кто устыдился моего появления на белый свет. Долгие годы я пытался ему доказать, что его сын ничем не хуже других, но он только качал головой и не раз твердил, что я не стою и понюшки табаку. Гордость не позволяет мне признать его правоты, по крайней мере в том, что касается моих литературных занятий. И все же, когда я сделал взнос за квартиру, он впервые приехал в Софию и тотчас же потребовал, чтоб я отвез его на стройку. Взобрался по лесам на четвертый этаж, долго оглядывал голые кирпичные стены, потом сказал:
Читать дальше