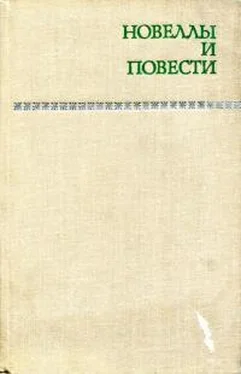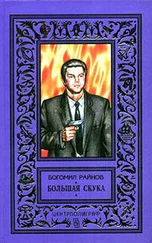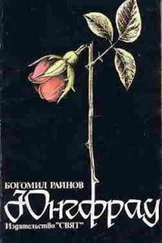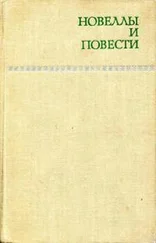Я давно свыкся с мыслью о виселице. Но иногда, когда я пытался представить себе, как все произойдет, мне случалось видеть вместо села нашего бескрайнее пепелище и слышать, как из-под земли несутся, сливаясь воедино, тысячи воплей: «Будь ты проклят, Учитель! Трижды проклят!» И я вскакивал с лавки и устремлялся к окну. Дома сверкали под солнцем: целехонькие, побеленные и подсиненные к пасхе, окутанные облаками весеннего цветения, полные жизни, богатства и надежд.
Только Ванка, жена моя, видела меня в таком испуге, но она была на сносях, и мне не хотелось усугублять ее тревоги; обдав голову холодной водой, я причесывался и шел к людям. А стоило мне оказаться среди людей, как снова ко мне возвращалась улыбка и я снова становился неколебим. Неколебим потому, что колеблющимся свобода не дается, — что тут ни придумывай, а повсюду на земле, так или иначе, за свободу приходится платить. Какой же ты учитель, если не знаешь этого? А улыбался я для того, чтобы не столь страшной казалась перуштинцам плата. Лишь тогда я понял, братья, что такой улыбкой улыбался и апостол Бенковский.
И каждый толковал мою улыбку по-своему: или видел в ней уверенность в наших собственных силах, или небесное предопределение победы, или какую-то большую тайну, о которой не следует спрашивать. О стариках и богачах я не говорю — с ними в эти дни я старался встречаться пореже.
Куда бы я ни шел, где бы ни появлялся, повсюду — на улицах, из-за оград — меня встречали и провожали прекрасные сияющие глаза и молчаливые улыбки соучастников. День за днем, постепенно начал я все больше укорять себя за колебания и маловерие. И стало мне казаться, будто действительно существует что-то, что уже решило исход восстания.
Иногда я спрашивал себя: «Уж не вознаграждают ли меня сейчас перуштинцы за мою любовь к народу плодами той веры, которую я долгие годы сеял в их душах?» Но нет, такого не могло быть — не могла быть в этом только моя заслуга, или одного только комитета, или одних десятников. Можете удивляться, живые братья, но в последние дни Павле Хадживранев и Спас Гинов — мужи разумные и прозорливые, сумевшие вовлечь в дело много родовитых семей, — хоть и тревожило их предстоящее кровопролитие, куда больше опасались того, как бы в селе не заметили этой их тревоги.
Как-то вечером, после того как уже свершилось страшное предательство и некоторые села восстали, дабы опередить аресты, увидели мы, как за Филибелийской равниной заалело зарево. Все село на него глядело, но ворчали только старики. И лишь под утро Павле спросил меня о пожарах. Я сказал ему, что это-де горели турецкие села, хотя оба мы прекрасно знали, что там, в Среднегорье, по ту сторону равнины, все села как есть болгарские. Он сделал вид, будто поверил, и больше об этом не заикнулся. И на душе у него словно полегчало.
А Спаса послал я в эти дни разузнать, что творится в ближайших болгарских селах, с которыми мы должны были действовать заодно. Отец его в свое время возил на продажу зерно местных турецких помещиков, и турки Спаса не трогали, он всюду сумел заглянуть. Раза два-три его останавливал турецкий патруль, но всегда находился заступник: «Эй, отпустите его, он свой человек! Спас-эфенди, как там у вас дела?»
Вернулся Спас озабоченный, а на вопросы наши: «Что ты видел?» — ответил: «Видел я, что нет на свете ничего сильнее огня и ножа… А в одном селе спросили меня болгары: будем ли мы умирать, как они, или в турецкую веру перейдем?» — «И что ж ты ответил?» — спросил Павле. — «То же, что и ты ответил бы, Павле… Или не верно я им сказал?» — «Верно, Спас».
Они обнялись, как братья, да и было промеж них что-то вроде свойства, потому что Хри́стос, меньшой Хадживранев сын, тот, что помер, был дружком Спаса, а Ягода, нареченная Хри́стоса, вошла в дом Гиновых, со Спасом обвенчалась.
Живые братья болгары, еще многое мог бы я вам поведать, да только кончаются наши патроны и не знаю, какое солнце озарит меня завтра — желтое или черное.
Так и умру, не узнав, что сталось с женой моей. Я потерял ее из виду в первый же день боя. Младенец вот-вот должен был появиться на белый свет, и я оставил Ванку с другими женщинами в одном доме. Дом каменный, добротный, не боится огня, но турки вскоре отрезали весь тот край села. Там среди женщин были и жены чорбаджий, и потому опасаюсь я, как бы заодно с ними не пощадили турки и мою Ванку, не отвезли бы ее живую в Устину, и тогда сын мой родится в турецком селе, покуда отец его со своими товарищами погибает в болгарском.
Читать дальше