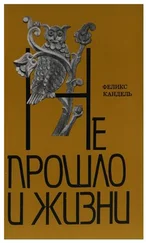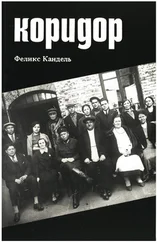И стало по деревне тихо.
По одной уезжали семьи, по одной пустели избы, остывали навсегда печи. Пили крепко, доедали свинину с курятиной, бахвалились, бесшабашно прятали испуг, хмельными входили в город, в блочные свои жилища.
Хмельному не так боязно.
Чем меньше оставалось народу, тем громче гуляла деревня, шумом разгоняла тишину. Но никто не толпился у окон, как когда-то, разглядывая веселую гулянку, – некому было разглядывать. Только избы стояли вокруг скорбными могильными камнями, с примкнутыми по-хозяйски засовами.
Придут бульдозеры, отомкнут.
Последние уже не гуляли. Уезжали тихо, без вины виноватые, и остались дома без защиты.
Приходи – бери.
Тут же прикатили ловкачи с тележками. Пошныряли по избам, по чердакам, отодрали доски, отвернули ручки, засовы со щеколдами; пригнали грузовик, под шумок раскатали избу по бревнышкам. А деревня жила. Была вода в колодцах, печи для обогрева, поленницы дров – уберечься от непогоды.
Явилась из города удалая компания. Выбрали избу почище, откупорили бутылки, и пошел гул, песни, недвусмысленный женский визг. Выпили, побаловались по возможностям, на прощанье прошли по улице, кидали бутылки по стеклам, выбили все, ни одного не пропустили, и ушли, не оглянувшись.
Ветры засвистели по избам, дожди хлестнули по половицам. Выдуло жилой дух, пошла по углам сырость, но деревня жила, деревню можно подлатать, подчистить, снова поселиться, – с шумом ворвались киношники, переодели актеров, подожгли с трех сторон. Немцы стреляли из автоматов, бабы орали из массовки, дым из-под крыш натуральными клубами рванул к небу.
Стояли за ограждением любопытные, стояли и прежние хозяева. Одна бабка не утерпела, кинулась к своей избе, стала тушить голыми руками. Они и бабку сняли: получился на всю картину самый впечатляющий кадр.
Ушли киношники – остались горелые срубы. Да трубы закопченные. А деревня жила. Улица есть, колодцы есть, огороды: поставь дом да живи. Приползли, наконец, бульдозеры, всё пустили под нож. Труха, калечные бревна, куски битых кирпичей. Навалили ковшами на грузовики, отвезли на свалку.
А деревня жила. Поспевали яблоки на яблонях, наливались груши, в колодцах стыла вода.
Засыпали колодцы, срубили яблони с грушами, сровняли участки под фундаменты, залили вокруг асфальтом. Выросли на том месте высоченные дома, в дома въехали люди, – не вспомнишь теперь, где стояла изба, где собачья конура.
И лишь по весне пучит асфальт на тротуарах, лезут наружу упрямые ростки. Их рвут, давят ногами, заливают новым асфальтом, но по другой весне всё заново.
Лезут упрямо ростки.
Лезут.
Лезут…
У беспородного пса будущее складывалось устойчивым, заранее предсказуемым.
Будка у забора.
Ржавая миска.
Хозяин с хозяйкой.
Верная им служба.
Но деревня вдруг опустела, без людей остались кошки, остались без людей собаки.
Кошки одичали первыми. Убежали в лес, в поле, стали охотиться на птиц, на мышей. Когти острые, глаза лютые: при виде прохожего кричали хрипло, по-звериному, близко не подпускали. Да и не решались подойти к ним близко.
Собаки никуда не ушли. Собирались в своры, кружили по деревне, самые беззаботные справляли по углам свадьбы, самые преданные лежали перед избами, терпеливо ожидая своих, лаяли свирепо по ночам, отгоняя воров от пустых жилищ.
Появились собачники. Каких переловили, каких разогнали, а нашему герою повезло, одному ему за особую стать. Отмыли, расчесали, подкормили, выставили на продажу на Птичьем рынке посреди котят, кроликов, голубей, и он попал в интеллигентную семью, которая отвезла к ветеринару и тут же выхолостила, лишив мужской силы. Тоскует по будке своей, по окрестным подругам, которые поддавались без прекословия, дни проводя скучные, без порывов плоти. Ненавидит омерзительное имя Амфибрахий взамен прежнего, сладостного уху – Шпунц, что подталкивало к оскалу, прыжку, клацанью зубов: Шпу-пу-пунц!
Интеллигентные хозяева ухаживают за ним, балуют и закармливают лакомствами, но он не выносит их учтивые манеры, картины на стенах, ковры на полу, от застарелой книжной пыли нападает на пса долгий, неодолимый чих. Хозяева музицируют с друзьями на скрипках-фаготах, а он злобеет до воя в горле, до яростного клокотанья из глубин живота, которое не сдержать стиснутыми зубами. Да еще воткнут диск в сооружение, изрыгающее звуки, внимают благоговейно концерт для ударных: ксилофон, виброфон, маримба, глокеншпиль, литавры, барабан, фортепьяно, – всякий завоет с тоски. А заслышит с улицы свое, деревенское, на гармони, гавкать начинает, метаться, рвать зубами обивку на креслах.
Читать дальше





![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 6] (1945 – 1970 гг.)](/books/184641/feliks-kandel-ocherki-vremen-i-sobytij-iz-istorii-thumb.webp)
![Феликс Кандель - Очерки времён и событий из истории российских евреев [том 3] (1917-1939)](/books/184769/feliks-kandel-ocherki-vremyon-i-sobytij-iz-istorii-rossijskih-evreev-tom-3-1917-1939-thumb.webp)