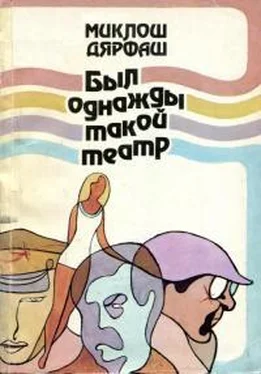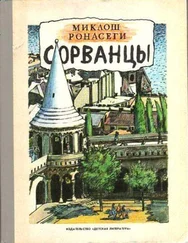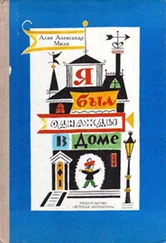Дюла не заметил, как промелькнуло время. Мол опустел. Даже влюбленные парочки возвратились на берег. Духовой оркестр давно смолк, уступив место модным танго, румбам и прочим мелодиям, зажигательным и тягучим. Дюла постоял еще немного и медленно двинулся к отелю.
Войдя в холл, он поймал смущенный взгляд портье. Ступив на лестницу, покрытую красным ковром, Дюла обернулся. Портье выбрался из-за зеркального пульта и протянул ему ключ от номера.
— Моей жены нет? — спросил Дюла по-немецки, с трудом подбирая слова и вертя ключ на пальце.
— Нет. Мадам Торш четверть часа назад вышла из номера с двумя чемоданами и попросила машину до вокзала.
В номере Дюлу встретил идеальный порядок. Илка сумела собраться так, чтобы не оставить следов поспешного отъезда. Посреди стола, возле огромной вазы с розами, лежал аккуратно сложенный вчетверо листок бумаги. Дюла развернул его и прочитал несколько слов, написанных изящным бисерным почерком:
Мне необходимо уехать. Я больше не хочу с тобой жить. Я не сержусь.
Илка.
Какое-то время он вертел записку в руках, продолжая ее изучать, а потом рухнул в зеленое кресло с узором из пальмовых листьев.
Через два дня он вернулся в Будапешт.
Семейство Вунделей покинуло Будапешт, поручив лучшему столичному адвокату немедленно возбудить дело о разводе. У Дюлы мысли не возникало о том, чтобы попробовать наладить отношения. Он ни минуты не сомневался, что там, на берегу моря, они расстались навсегда. Кроме того, он знал, что был несправедлив, и все-таки не жалел о содеянном.
Бракоразводный процесс стал не меньшей сенсацией, чем бракосочетание. Особенно возбуждал публику тот факт, что ни в одной газете нельзя было прочитать на эту тему ни строчки. Предусмотрительность и крупные пожертвования господина Вунделя сделали свое дело. Переезд Дюла с помощью господина Вайса провернул в сорок восемь часов. Его новая квартира располагалась на улице Штефании, в красивом, похожем на виллу доме. По мнению господина Вайса, именно такое, изысканное жилище соответствовало нынешнему положению господина артиста. Он не стал забивать Дюле голову и предъявлять многочисленные счета, так как до него дошли слухи, что господин Торш собирается сниматься в кино. По расчетам господина Вайса первая же роль должна была покрыть все расходы с лихвой. Он ничуть не удивился, услышав от Дюлы: «Платите, сколько считаете нужным, господин Вайс», и склонился в глубоком, почтительном поклоне.
Время, оставшееся до начала сезона, Дюла провел на киностудии. Слухи подтвердились. Торш действительно дал согласие сниматься. Ему досталась очередная роль в духе Ласло Акли, только в еще более убогом варианте. Дюла махнул на все рукой и не стал спорить. Первые же кадры привели режиссера и продюсера в неописуемый восторг. Картина еще не была закончена, а Дюла уже получил приглашения на главные роли от трех других режиссеров.
Съемки первого фильма заняли две недели. Как только они закончились, Дюла заперся в своей новой квартире и безвылазно просидел там неделю. Обед и ужин ему носила дворничиха. Он отключил телефон и никого не принимал. Причина добровольного заключения состояла в том, что он решил выучить наизусть «Трагедию человека». У него не было ни сил, ни желания сопротивляться внезапно овладевшей им идее. Картина за картиной, роль за ролью выучил он все произведение от начала до конца. Часть текста он помнил еще по сегедским репетициям — тогда это был для него лишь набор патетических фраз, лишенных внутреннего смысла. Точно так же, не затронув сознания, осело в памяти то, что приходилось учить в институте.
Однажды утром он задернул занавески на окнах, зажег свечи, сел за письменный стол и приступил к делу. Поверхность письменного стола превратилась в сцену, по этой сцене двигались герои «Трагедии». Дюла не торопясь разыгрывал все произведение от первого до последнего слова. Если бы кому-нибудь довелось увидеть или хотя бы услышать все это через закрытую дверь, без сомнения, эта удивительная постановка стала бы одним из сильнейших театральных впечатлений его жизни. Торш почти не шевелился, лишь глаза его неотступно следовали за тем, что происходило на воображаемой сцене. Текст он произносил негромко, иногда и вовсе переходя на шепот. Голос его звучал то мягко и лирично — когда устами его говорил Кимон, то грубо-иронически, когда очередь доходила до Люцифера. Это было удивительное состояние — он чувствовал себя кем-то вроде Творца, Властелина, играючи вершившего судьбу человечества.
Читать дальше