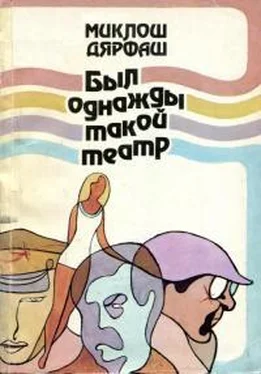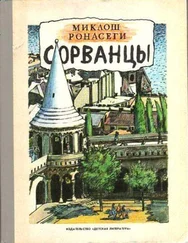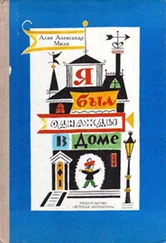Илка была ослепительно хороша в своем белом чесучовом костюме, казалось, она сама излучает свет. Она стала еще изящнее и привлекательнее, чем прежде. Особенно красил ее изумительно ровный загар.
— Ты же знаешь, мне нравится все, что ты делаешь. Зачем же спрашивать? — Она положила руку мужу на плечо и тоже склонилась над водой.
— Мы с тобой живем бок о бок и болтаем, — Дюла уставился невидящим взглядом в морскую даль, — а понимать друг друга не понимаем. Ты ведь думаешь, что Тузенбах для меня всего лишь одна из многих ролей.
— Дюла, я…
— Этого нельзя объяснить. Ты такое же бессмысленное создание, как и я.
— Я хочу только одного: чтобы тебе было хорошо…
— А я от этого гибну.
— Тяжелый ты человек, — вздохнула Илка, — но все равно я не жалею, что стала твоей женой.
Дюла не шелохнулся, пристально разглядывая маленький кораблик, словно пришпиленный к небу на горизонте.
— Когда давали «Трех сестер», я играл Тузенбаха и верил, что могу стать настоящим актером. Ан нет. Оказывается, и критика, и публика предпочитают видеть меня в других ролях. Оказывается, это не то, что мне нужно, а нужна мне та ахинея, которую сочиняет Акли.
— Дюла…
— Да, да… Ты тоже не прочь убедить меня примириться с Акли. Помнится, когда я читал тебе «Китайскую вазу», ты сказала, что не можешь представить для меня лучшей роли.
— Я…
— Да, ты. Ты тоже отняла у меня Чехова и подсунула вместо него Акли.
— Почему ты так разговариваешь со мной?
— Потому что ты была права. Я сыграл соблазнителя из «Китайской вазы» и еще кучу всяких соблазнителей и снова стал великим актером. Великим! — с горечью повторил он. — Ярмарочный клоун.
— Ты винишь в этом меня?
— Вас! — воскликнул Дюла, глядя на башню маяка, в которой только что вспыхнул огонь.
— Все это выдумки, родной. Тебя все уважают.
— Как же, уважают. За то, за что следует презирать.
— Все это неправда. Ты окружен почетом, как мало кто другой.
— Они обдирают меня как липку!
— У тебя есть все, чего только может пожелать актер.
— Ну да, до тех пор, пока я играю соломенных чучел. Балбесов, которых наша публика держит за героев. Потому мне и аплодируют, потому директор каждый год и поднимает расценки.
— Театр старается делать все, чтоб тебе было хорошо, — в голосе Илки звучала мольба.
— Ну и пошли вы все к дьяволу! Ты ничуть не лучше их. Что дала ты мне за три долгих года? Помаду с губ да аппетитные формы. Да, еще красивые платья, любовные наслаждения. Одного ты не дала мне — как раз того, что обязана была дать.
— Чего я тебе не дала? — Женщина смотрела на него в упор. Дюла молчал. Он чувствовал, что не может облечь своих мыслей в слова, и злился на самого себя за это. Настойчивый вопрос в глазах Илки раздражал его еще сильнее. Кто эта женщина? Что ей нужно? Как она посмела влезть в его жизнь?
— Отвечай! Чего я не дала тебе? — упрямо повторила Илка.
А, не все ли равно. Главное — он хотел от нее освободиться. Его ответ был ложью — от первого до последнего слова:
— Чего? Ребенка. Ты не родила мне ребенка.
— Я бы очень хотела иметь ребенка, — ответила Илка.
Дюла, постепенно начинавший верить собственным словам, внезапно воскликнул с ненатуральным, актерским пафосом:
— Ложь! Ты не хочешь иметь детей!
— Дюла, дорогой…
— Не оправдывайся! Этому нет оправдания. Ты не жена, ты только женщина. Я женился на тебе, чтобы ты родила мне ребенка…
— Разве я виновата, что господь наказал меня?
— Никто тебя не наказывал. Все это притворство.
— Мне сказали врачи.
— Все ложь. Они с тобой в сговоре. Зачем ты выходила за меня? В любовницы с тем же успехом могла сгодиться любая другая, — выкрикнул он и отвернулся к причалу. Илкино лицо пылало.
Шум волн, разбивавшихся о бетонную стену причала, и вавилонский галдеж, стоявший вокруг, заглушали их голоса, и они не замечали, что давно уже орут друг на друга. Оскорбление, с безжалостной жестокостью брошенное в лицо, потрясло Илку до глубины души. На секунду мелькнула мысль броситься в море и разом положить конец всему, но муж, словно угадав ее намерение, с силой оттолкнул ее от перил. Этот жест внезапно отрезвил Илку. Она повернулась и твердым, решительным шагом направилась к отелю. Дюла провожал ее взглядом, пока она не ступила на берег, а потом снова уставился в море. Его мучило раскаяние, и все-таки он был рад, что остался один.
Долго еще стоял он на узкой полоске бетона, выдававшейся далеко в море, и был совершенно один, хотя вокруг шумели и суетились люди. Он тосковал по матери, с которой по-прежнему мог только переписываться, по дядюшке Али, Хермушу и господину Шулеку, от которых давным-давно не имел никаких известий, по Аннушке, чье прикосновение до сих пор ощущал на своей руке, и по Илке, которую ничего не стоило догнать и прижать к себе. Однако он не двигался с места: так было лучше, и угрызения совести ничего не меняли. Ветер щекотал ему шею, играя воротником рубашки, вода на глазах становилась темно-синей, разноплеменная речь постепенно умолкла. Каждый раз, когда волна окатывала мол, ему казалось, что он, вцепившись в перила, с бешеной скоростью несется в Черное море. Он снова один!
Читать дальше