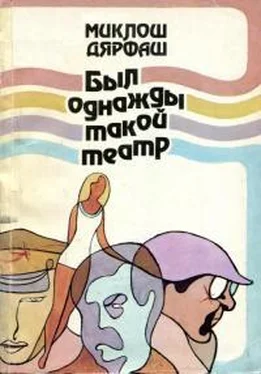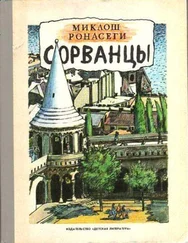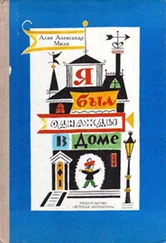— Друг мой! — воскликнул он. — Ты все сделал как надо. Если пьесу соберутся печатать, непременно исправлю все по твоему усмотрению. Я написал посредственную вещицу, а ты умудрился сделать из нее шедевр…
Дюла сел перед зеркалом и намазал лицо кремом. Он молчал, предоставляя автору болтать сколько влезет.
— Нынче вечером ты стал большим актером, — писатель щелкнул крышкой узенького золотого портсигара, — а завтра проснешься кумиром всего Пешта. По-видимому, людям больше не нужна чистая лирика, им нужно то, что делаешь ты. Ирония, грубоватый цинизм… Я затрудняюсь определить, что именно… Однако факт тот, что сегодня ты стал звездой первой величины. Затрудняюсь и затрудняюсь, черт с ним, в конце-то концов… есть в твоем голосе что-то совсем новое, а мой вот, напротив, в чем-то устарел. Я думаю, мне есть чему у тебя поучиться.
Каждое слово Акли свидетельствовало о том, что он предлагает молодому актеру свою дружбу. Открытие это поразило Дюлу и вызвало у него искреннее уважение. Дюла не обладал настоящим литературным вкусом, более того, в институте он не раз вынужден был признаваться самому себе, что не понимает, чем так уж хороши Шекспир или Мольер. Отдавая себе отчет в том, что пьесы вроде сегодняшней немногого стоят, он все-таки получал от них известное удовольствие. Теперь же, глядя в широкое зеркало и видя в нем писателя, не раз склонявшегося перед берлинской и лондонской публикой, он вдруг подумал, что тот и вправду в чем-то велик и достоин бессмертия. Быть может, дело в том, что он хорошо знает цену себе и своим возможностям.
Дюла стер с лица грим, растворенный кремом, потом склонился над раковиной и умылся до пояса. Акли тем временем накинул поверх фрака черное пальто из мягкой английской шерсти и небрежно повязал белоснежное шелковое кашне.
— Мне пора. Нужно прийти пораньше, проверить, все ли в порядке с банкетом. Ты будешь сидеть рядом со мной, сынок. — Акли успел прийти в себя, и в голосе его зазвучали привычные командирские нотки.
— Спасибо, мэтр…
— И давай не «выкать». С сегодняшнего дня можешь спокойно говорить мне «ты».
Дюла окунул лицо в воду, издав нечто среднее между словами благодарности и бульканьем.
— Значит, через полчаса в «Нью-Йорке».
Он похлопал Дюлу по плечу, потом напустил на себя солидность и вышел в коридор.
Дюла насухо вытерся полотенцем, проверил, не осталось ли краски у корней волос, и сердито потряс головой. Ему не нравилось то, что он сделал сегодня вечером, но делиться этим с Акли не было ни малейшего желания. Драматург вообще не вызывал у него доверия. Пожав плечами, Дюла улыбнулся собственному отражению.
«В общем-то, я всего лишь высмеял эту роль, — подумал он. — Выставил на посмешище сентиментального болвана по имени Франсуа. Это что, искусство? Вряд ли», — ответил он сам себе, состроив гримасу, и уселся в кресло, продолжая изучать свое отражение в зеркале. Вспомнив о том, как бесновалась публика, он фыркнул. Выходит, такой чепухи довольно, чтобы тебя признали великим актером? Он стал припоминать зрительный зал. Раскрасневшиеся лица молодых женщин, приоткрытые алые рты с ослепительно белыми зубами, гладко выбритые, исполненные одобрения лица мужчин, бледные лица старух в оправе из драгоценностей. Кокетливый смех девиц, сдержанные улыбки мужчин, пустые, бессмысленные взгляды, униженный восторг покоренных, а еще — умильные кивки торговок, довольных, что не зря потратили деньги. Зрительный зал. Дюле хотелось разобраться в самом себе. Этот вечер, вознесший его над другими людьми, оставил в душе неприятный осадок. Слишком просто было то, что произошло. Люди в зале отнеслись к его игре, как к трюкам воздушного гимнаста. Им-то небось казалось, что он просто играет, а не живет и не страдает на сцене. Ну а что, если так оно и было? Всего лишь холодный расчет? Может, ему просто захотелось поиздеваться над выспренностью этого несчастного Франсуа? Почему люди так щедры? Почему они так бездумно и беззаботно выбирают того, в ком надеются обрести исполнителя своих желаний? Он усмехнулся. Ведь у него сегодня есть все основания радоваться, а он не находит себе места. Нет, решительно он не в силах разобраться в самом себе. Дюла снова взглянул в зеркало и скорчил рожу.
Потом ему вдруг вспомнился Шандор Йоо. Точнее, то, старое, письмо — листок бумаги в линейку, исписанный жирными каракулями господина Шулека:
«…Вам, сэр Коржик, должно быть, известно, что господин Йоо как вернулся с фронта, так с тех пор и не просыхает, но таких дел еще не было. И ведь срам-то какой — все прямо в театре, ажно занавес пришлось опустить, а тот, который при занавесе стоял, не сразу понял, что да как, ну и схлопотал от дежурного полицейского в зубы. А дело было так: господин Йоо в тот раз Банк Бана [3] «Банк Бан» — пьеса крупнейшего венгерского драматурга XIX в. Йожефа Катоны (1791—1830).
играл, ну, с бородой, понятное дело. Вот обнимает он королеву, а сам подходит вплотную к суфлерской будке. Ежели помните, сэр Коржик, он там должен сказать что-то навроде: не аплодируйте, мол, а то Банк Бан боится. А он вместо того подходит к рампе, а сам пьяный, лыка не вяжет, и давай орать: хватит, мол, мстить, хватит убивать революционеров, а заодно и всех подряд. Вы и представить себе не можете, что тут началось. Там повсюду офицеры сидели, ну, которые нас оккупировали. Спектакль-то в честь победы белых давали. А он стоит, орет, руками машет… Так и стоял, пока занавес не опустили».
Читать дальше