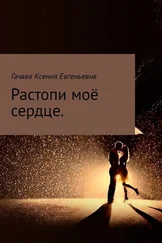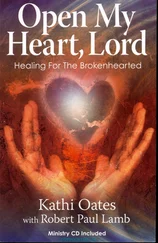Он прижимается ко мне, прячась от всех этих ужасающих видов. Ненавистная мне дрожь детского тельца прекрасно ощутима под пальцами.
Я даже не могу ему ничего сказать — в горле пересохло, а кровь, кажется, стынет где-то в жилах.
Не нужно было уезжать… нужно было остаться в мотеле!
Ещё один резкий поворот Хейла едва ли не разворачивает машину на 180 градусов. Ударяя по тормозам в нужный момент, он чудом выруливает от огромной сосны, чей прогнивший ствол при едином касании грозится рухнуть и превратить нас в лепешку.
По лесу маневрировать сложнее — и Джасперу, и тем, кто сзади. Но они, вопреки нашим общим предположениям, ничуть не отстают. Для них и бездорожье — не помеха.
— Это Рыба?..
— Полиция, Белла. Со штрафом за езду с превышенной скоростью.
Моя кожа покрывается мурашками от его слов. От его тона…
Черт!
Я прижимаю к себе Джерома так крепко, как могу. Они могут пытать меня, в меня стрелять, убивать, расчленять, но мальчика я не отдам! Я защищу его как, чем и перед кем угодно! Никто не посмеет сделать ему больно!..
— Сейчас уйдут, — внезапно произносит глава охраны. Ветки кустов, взявшихся из ниоткуда, ударяют по стеклам с отвратительнейшим звуком.
И свет фар сзади, как только мы пропадаем в каких-то зарослях, правда исчезает.
Оторвались?..
Оторвались!
— Выедем с другой стороны, прямо возле самолета. До той трассы им не добраться…
— Мама… — жалобно хнычет Джерри, морщась, будто от боли.
— Тише, малыш, — глажу его, малость успокаиваясь от прогноза Джаспера, — все, никого нет, видишь? Они уехали. Они ехали не за нами…
Джаспер хмурится, но не произносит ни слова. Его отражение я прекрасно вижу в зеркале заднего обзора, но тоже молчу. Все после… после…
Узенькая полоска трассы, где по краям расположилась длинная, насколько хватает глаз, канава, встречает нас тишиной. И вправду: не доберутся. Пропали.
Хейл немного сбавляет скорость, удерживая четкую ровную позицию между канавами. Едет быстро, но уже не летит.
Его спокойствие, подкрепляя мое, разносится по салону.
… Однако, как оказывается через полминуты, напрасно.
— Ты проходил практику у Шумахера?
Он усмехается, качая головой.
— Экспресс-курсы выживания, Белла. В тот день я впервые сел за руль.
— У тебя талант…
Джаспер оглядывается, хмыкнув:
— Я научу и тебя, если потребуется.
Теперь и я улыбаюсь. Теперь и мой страх куда-то пропадает, теряясь среди других эмоций. Адреналин, выработавшийся за время погони, постепенно прекращает свое действие.
Мы проезжаем два или три километра, когда впереди появляется светлый огонек.
И приближается… приближается…
Слишком близко.
Джаспер ударяет по тормозам, мигом спустив с лица всю расслабленность, замирая за метр до капота автомобиля.
Та самая машина с яркими фарами, серебристая, предстает на обозрение посреди дороги.
Ни вправо, ни влево мы свернуть не можем из-за канавы.
Назад уже не успеем — её мотор заведен, догонит в два счета.
А это значит… гонка окончена.
Папочка.
Он лежит на полу, залитом собственной кровью и, протянув вперед белые-белые, фарфоровые, как у кукол, ручки, зовет единственного человека, который может ему помочь.
Папочка.
Он обнимает его, давясь слезами и даже не пытаясь сдерживать рыданий. Объятья совсем некрепкие, он едва-едва может обвить пальчиками его шею, но та сила, что он хочет в них вложить, очевидна.
Папочка.
Синевато-лиловая плитка, блики тусклой лампы на полу, едкий запах спирта и бинтов, от которого нет спасенья. Одна кровать в центре, две пустые — по бокам. От чересчур большой дозы обезболивающих тоненькие сиреневые веки даже не подрагивают.
Папочка.
«За боль причинённую собственной болью и отплатишь», — слова столь пугающие, но столь знакомые. Тот же смятый листок бумаги, на обратной стороне которого улыбающаяся рожица, нарисованная мальчиком специально для него, те же восемь символичных строчек, содержащих в себе послание похуже, чем все свитки, приписанные сатане.
Папочка.
Немой крик. Немой, несмотря на ярые попытки добиться звука. Испуганный, с потерянным выражением на лице, отчаянный, недоуменный. А потом снова зов — все тот же, немой. И снова маленькие пальчики на шее.
Папочка.
Демонстративный поворот головы в другую сторону. Отказ смотреть в глаза и слушать, что скажут. Уверенность, что ничего хорошего не будет. Час, два — а потом одиночество. И напоследок он скажет зачем-то совершенно ненужные, не вдохновляющие, не облегчающие боль слова: «я вернусь».
Читать дальше