Марк Дадли ободряюще улыбается:
— Вы, вероятно, помните в точности, о чем тогда говорили?
— О Пикассо. Матиссе. Существуют ли вечные истины, и способно ли искусство их явить. Тогда было в обычае говорить о таком.
Вот она в конце концов и приоткрыла завесу над тем, как они тогда жили, что за веру исповедовали в середине XX века. Но он смотрит на нее все с той же обворожительной улыбкой. И не спрашивает — а ведь должен был бы, — что за работы она в тот день увидела, не сохранились ли какие-либо из них. За все время, что он у нее пробыл, на ее картины он и не посмотрел, а они висят на стене прямо напротив него, зато не сводил глаз с шейкерских [15] Простая, удобная мебель, которую изготовляла религиозная секта шейкеров, переехавшая в Америку из Англии в 1774 году. Ныне ценится очень высоко.
стульев, словно прикидывал, сколько можно за них выручить.
— О чем вы думали тем вечером, когда пришли домой? — он старается ее подловить: смотрит, не покраснеет ли она, не скажет ли: «Я не ушла домой».
— О живописи. — Она смотрит ему прямо в глаза. — А с кем еще вы разговаривали?
— Пока ни с кем. Хотел, понимаете ли, в первую очередь поговорить с вами. Для меня это вроде как дело чести.
— В таком случае, с кем собираетесь поговорить?
— Пока не решил. Наверное, все зависит от того, какие вопросы будут занимать меня больше.
— Лжете.
— Мисс Прокофф, это вы уж слишком.
— Разрешите задать другой вопрос?
— Разумеется.
— У вас есть искусствоведческая подготовка?
— А вы, знаете ли, и сами могли бы брать интервью. Вы задали все, какие ни есть, неприятные вопросы.
— Итак, отвечайте.
— Формального образования, если вы об этом, я не получил. Но я почитал кое-кого из наших достопочтенных критиков и не уверен, что это изъян. Возможно, это даже некоторое преимущество. Просто поразительно, какой только ерунды не понаписали профессора. Откровенно говоря, я могу написать и получше.
— Потому что у вас есть здравый смысл?
— Что-то вроде. Я смотрю, что за работы передо мной. А не развожу теории вокруг да около.
— Итак, вы намереваетесь произвести переворот в искусствоведении?
— Ничего столь грандиозного я не замышляю. Но хотелось бы думать, что я мог бы вновь открыть дорогу увлеченному любителю.
— И тем не менее это никак не объясняет, почему вы остановились именно на нем.
— Простите?
— Отвечайте. Заинтересовал бы вас этот проект, не будь он пьяницей?
— Так-так, мисс Прокофф, — мнится ей или он и впрямь больше не старается жантильничать, — а что, если мы на минуту-другую прекратим препираться и переменим тему? — Он рассматривает свои изящные руки. — Знаете ли, — так, между прочим, — есть много людей, которые с радостью расскажут мне все, что им известно. О той девице, к примеру.
— Меня от этой темы избавьте.
— С удовольствием.
— А теперь я пойду наверх, вздремну. Нина вас проводит.
Если предположить, что в ноябре сорокового она, следуя по коридору за Клеем Мэдденом, волокла за собой груз всего своего прошлого, в таком случае начать надо с 1899 года, с Одессы, где ее отец вступил в революционную ячейку. Собиралась ячейка в пропахшем потом подвале без окон, все ее члены ходили в заношенных черных пальто. Ее отец был противником насилия и выписывал отрывки из работ Кропоткина с тем, чтобы распространять в народе. Благодаря счастливой случайности — у него заболела мать, и он в тот вечер остался с ней и собрание ячейки пропустил — его не арестовали заодно с другими, их захватили с запасом листовок и спустя несколько недель расстреляли.
А его вскоре переправили в Бремен, затем в Новый Свет, где он провел всю жизнь, и всю оставшуюся жизнь искупал вину за то, что выжил. С утра до вечера хлопотал по чужим делам: учил английскому недавних иммигрантов, подыскивал им работу, жилье, собирал одежду для их детей; давал в долг деньги из своей мизерной зарплаты штукатура, заседал в комитетах, работал в центрах социальной помощи. Чуть не каждый вечер его можно было застать на каком-нибудь сборище реформаторов. А в это время дома — чего он совершенно не замечал — его жена сходила с ума, опасаясь злоумышленников, запирала детей в чулан. Она месяцами кормила дочерей отбросами, извлеченными из мусорных баков рынка на Приткин-стрит. Как-то продала их башмаки и не выпускала из дому, держала дверь на запоре, чтобы к ним, не дай Бог, не наведался инспектор по делам несовершеннолетних. Ей слышались голоса, упреждающие о надвигающихся бедствиях. Она заложила обручальное кольцо своей свекрови, припрятывала серебряные доллары в носки и за плохо пригнанным кирпичом в дымоходе.
Читать дальше
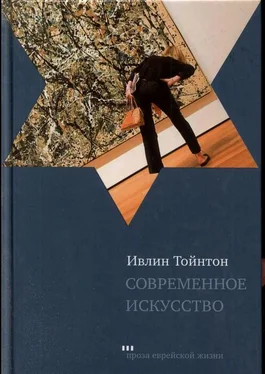



![Мэри Габриэль - Женщины Девятой улицы. Том 1 [Ли Краснер, Элен де Кунинг, Грейс Хартиган, Джоан Митчелл и Хелен Франкенталер - пять художниц и движение, изменившее современное искусство]](/books/397801/meri-gabriel-zhenchiny-devyatoj-ulicy-tom-1-li-kra-thumb.webp)







