— Что вы с ним сделали?
— Продала, что ж еще? Этих денег хватило на дивного Энгра, правда, пришлось немного добавить.
— У вас есть еще его картины?
— Ни одной. Ничего нет. Я видеть их больше не могла, картин этих типов. Вставала посреди ночи, включала свет, смотрела — и меня пробирал страх. От них исходила угроза. И больше всего от его картин. Ведь он и впрямь был безумец. Он не прикидывался, а это, что ни говори, страшит. Искусство должно быть не безумным, а спасать нас от безумия. Вот к какому выводу я тогда пришла, а все давай сплетничать, что я тронулась умом. А потом в один прекрасный день дело и вовсе приняло серьезный оборот. Вам надо посмотреть на моего Ван Дейка, на моих Пуссенов. Я велю Мари-Франс провести вас по замку перед уходом. Никто не понимает, как дивно писал небо Ван Дейк.
— Вы ничего больше не хотите рассказать о Клее Мэддене?
— Я его толком не знала. И не хотела знать. От таких, как он, держишься подальше.
Однако в тот вечер после ухода Марка Дадли, вдруг разбередив ее, всплыло одно воспоминание, хотя о Клее Мэддене она уже много лет всерьез не думала. Вереницей сценок — так он виделся ей теперь: вот он напился, вот он на одном из ее приемов — то слова из него не вытянешь, то он с кем-то схлестнулся, что-то буркает, обливается потом, словом, персонаж из дурного фильма, не имеющий никакого отношения к тому, что он писал.
А сейчас ей припомнился один день в начале пятидесятых, он тогда приехал в город купить красок и сходить к своему — их у него перебывало видимо-невидимо — мозгоправу и забрел в ее галерею. Она была одна, накануне с треском уволился последний ее помощник, болтала по телефону — плакалась сестре на фортели своего любовника, когда он возник в дверях — в тесноватом твидовом пиджаке, в руках что-то вертит. Она повесила трубку, ждала, что он скажет, но он беспомощно смотрел на нее, лоб его собрался мелкими морщинами.
— Хотите посмотреть выставку? — спросила она: демонстрировала, какая она терпеливая.
Он покачал головой. Посмотрел в окно, потом на нее и снова в окно; сощурился так, словно свет резал ему глаза. Она было испугалась: мало ли что ему взбредет.
— Что это у вас в руке? — опасливо осведомилась она, он разжал руку: на ладони лежал гладкий серый камешек.
В конце концов — они глядели друг на друга добрые три минуты — она спросила:
— В чем дело? Вы ведь ко мне пришли не просто так?
Он кивнул. Она закрыла глаза.
— Как хотите, но я не могу играть в угадайку. Так что скажите, что вас ко мне привело.
— Ваша дочь, — сказал он.
Со смерти ее дочери прошло десять недель. Похороны, соболезнования, цветы — все было позади, до великих перемен — переезда во Францию, продажи коллекции — оставалось восемь месяцев. Она и вообразить не могла, что бы такое он мог сказать.
— Я один раз видел ее. В тот день я вешал картину у вас дома. Она была, как я, — и он замолк.
— Не понимаю, что вы имеете в виду.
— Без кожи, — сказал он. — Вы не виноваты, она родилась такой. Я это сразу понял. Я думал о ней.
Лоб его разгладился, веки задергались.
— Я пришел сказать, что мне жаль. Но может быть, ей теперь хорошо. Может быть, ей так лучше.
— Хотите кофе? — спросила она, и он хрипло хохотнул.
— Как же, как же. Кофе, оно все разрешает.
Она вышла в заднюю комнату, где держала электроплитку, принесла две чашки подогретого эспрессо на подносе. Он расхаживал по залу, разглядывал картины молодого парня — его открыл ее последний помощник.
— Что скажете? — спросила она, он пожал плечами.
— Не исключено, когда-нибудь он и напишет что-то стоящее. Ничего не могу сказать.
— А что у вас? Работается?
Он помотал головой.
— Я уже год как толком не писал.
— Мне жаль, — повторила она, не найдясь, что сказать, его слова, и он снова пожал плечами.
— Но общий замысел это, пожалуй, не слишком изменит.
Тут в галерею вошла ее дальняя знакомая в умопомрачительной огненно-красной шляпке от Лилли Даш [66] Лилли Даш (1898–1989) — французский дизайнер моды, особо известна своими шляпками. В 1924 эмигрировала в США, много работала на Голливуд.
, и он залпом выпил кофе и, махнув рукой, ушел.
Больше она его не видела. Следующей весной она уехала во Францию, а потом узнала, что он погиб: разбился на проселочной дороге при каких-то на редкость неблаговидных обстоятельствах. Это было тем летом, когда она переехала в замок, тем летом, когда она купила своего первого Пуссена и похоронила прах дочери в урне у озера. Весть о смерти Клея Мэддена в ту пору особо ее не тронула: так, еще один скверный исход, о котором можно посудачить с гостями, наезжавшими из Америки, и только, но сейчас она сожалеет, что не рассказала Марку Дадли про тот день в галерее. Когда женщина в красной шляпке ушла, она закрылась в ванной и долго плакала.
Читать дальше
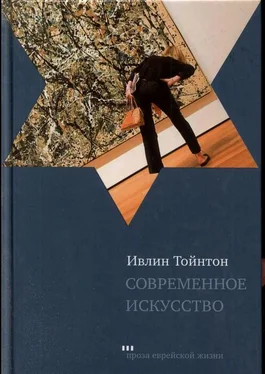



![Мэри Габриэль - Женщины Девятой улицы. Том 1 [Ли Краснер, Элен де Кунинг, Грейс Хартиган, Джоан Митчелл и Хелен Франкенталер - пять художниц и движение, изменившее современное искусство]](/books/397801/meri-gabriel-zhenchiny-devyatoj-ulicy-tom-1-li-kra-thumb.webp)







