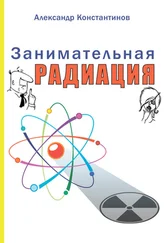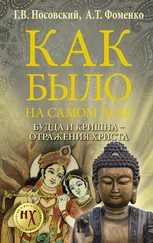— Мобия, блин! Квартира у меня, ясно? — огрызнулся Михаил Петрович.
— Конечно, конечно! — сказала врачиха и еще что-то записала.
* * *
Через месяц таблетки уже не помогали.
Страшнее всего, что Михаил Петрович постепенно сам разобрался в голосах, узнавал каждый, стал даже что-то отвечать, отругиваться уже в соответствии с теми ролями, которые они сами себе выбрали. С так называемым сыном можно было грубовато пошутить. Так называемую дочку Михаилу Петровичу было жалко, и он говорил с ней ласково, но все равно коротко и зло. Зло у него получалось лучше, а ласково — труднее.
Бабки на крыльце смотрели с укоризной. Поджимали губы, когда он шел мимо. Качали головами, гудели что-то о моральном облике. Он четко посылал их далеко, и регулярно ходил в магазин и на прогулку. В полицию и к психиатру больше не ходил. Потому что и так было ясно: все куплены, все замазаны в деле. Они там из него, если не преступника, так психа обычного сделают. И потом квартира — тю-тю. Вот этому сыну и этой вот, типа, дочке.
Фигушки вам всем! Не дождетесь! Он еще крепкий мужик! Он еще — ого-го!
Хотя, спал плохо. Очень плохо.
И еще очень опухало лицо. Это нервное, конечно, от недосыпа и всяких дум и воспоминаний. Но — кому теперь жаловаться? Сам во всем виноват. Нет никого, чтобы прикрыть, чтобы взять на себя груз. Вот был бы этот, с баском, настоящим сыном, так разобрался бы давно со всеми остальными. Вот тогда и разговор бы пошел иначе. Тогда бы и родство было видно. А так — эх, да что тут говорить?
— Михаил Петрович, — начала скрипуче консьержка, поймав его взгляд. — Нельзя же так…
— А пошла ты в пень, карга старая, — ответил он и даже не почувствовал никакого стыда.
Потому что надоели все. Был бы пулемет — всех бы застрелил. Своими руками.
* * *
— Ой, дед, ты дома, что ли? А наши все говорят, что ты болеешь, — этот мальчишеский голос был последней каплей.
— Болею я, внук, — сказал Михаил Петрович и почему-то заплакал, сидя на полу у тумбочки.
Плакать старался неслышно, чтобы не пугать парня.
— Болею, да, но — дома. Это такая совсем нестрашная болезнь. Старость называется.
Хотелось говорить и говорить, вслушиваясь в чуть хрипящий…
— А ты что, простыл, что ли? — встрепенулся было.
— Да не-е… Это мы с Витькой с уроков сбежали. Вот, думали, куда кости двинуть.
— С уроков — это плохо, — начал Михаил Петрович, но малец тут же перебил:
— Ага, плохо. Как сам-то в детстве, так было можно, да? А теперь время, значит, другое, ага? Вот только ты еще не начинай, как родаки.
— А я и не начинаю, — все же начал Михаил Петрович.
— Мишка, Мишка! — донеслось из трубки.
Это, наверное, Витька подбежал — Мишкин друг. И так вдруг закололо сердце: Мишка… Внук…
— Дед, так ты нас пустишь с Витькой? Мы у тебя отсидимся до вечера, ага?
— Ага, — кивнул он в зеркало, вслушиваясь, впитывая такой знакомый родной голос. — Приходите, конечно. Я вам тут чаю поставлю. И бутербродов. Тебе, Мишка, и Витьке твоему…
— Ты у меня самый мировой дед! Скоро будем! Жди!
Связь оборвалась.
* * *
Когда Михаила Петровича хоронили, бабки у подъезда говорили, что вот был ведь человек-дрянь, ну, просто никому не нужный человек. И злобный такой всегда. Гонор свой всегда показывал. И не здоровался. И даже ругался со всеми. А вот же, умер-то с улыбкой. И смотри, смотри — совсем другой же стал. Хороший какой…
— Вот все у нас сегодня сикось и наперекосяк из-за этого грузина!
— Да-а-а, сейчас-то на Сталина чего только не понавешали. Всех собак теперь — на Сталина. Сказал бы ты это в раньшие-то времена, когда помоложе был!
— Причем здесь вовсе Сталин? Я о Берии! О Лаврентий Палыче, так его и переразэтак трижды подряд за все хорошее!
Пиво с мужиками за столиком во дворе под раскинувшим толстые ветви старым тополем. В жаркую погоду второй половины лета. После работы, которая отняла, казалось, последние силы в конце недели. Ну, и разговоры, как положено. Пить пиво и молчать — это можно и просто из-под крана хлебать водицу. А если не молчать, то о чем говорят мужики жарким летним вечером, сидя вокруг запотевшей трехлитровой банки с пивом? Вот женщины выдумывают себе разное, что, мол, меряются мужики там всем подряд или девок своих обсуждают, и потому всегда они, женщины эти, стремятся подслушать хоть краем уха мужские разговоры. А мужики, может, вовсе о литературе рассуждают. Кино пересказывают. Футбол — вот тоже тема. Или еще можно о политике. Ну, и об истории, конечно. Потому что как же без истории, если вся наша политика и вся наша жизнь — оттуда?
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу