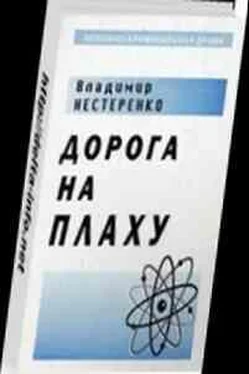— Я вижу, Толя, но я не виновата. Ты на меня кричишь, потому что больше не любишь, а, скорее ненавидишь, — и молодая женщина в страхе ожидала от него побоев или того, что однажды он не вернется с работы, и она останется одна со своим несчастьем. Но и она чувствовала, как в ее душе происходит перемена: не находила более ничего, чем бы могла пожертвовать ради мужа, хотя раньше была готова на все. Неужели любовь тает льдинкой, лежащей на солнце.
В вечера молчания Евгения боялась скрипнуть половицей, хлопнуть дверью или брякнуть посудой на кухне. В мертвой тишине накрывала на стол и робко приглашала мужа к ужину. Иногда он сидел, не шелохнувшись, иногда тяжело поднимался с кресла, шел на кухню, недавно им самим старательно отделанную кафелем и обклеенную веселыми обоями, обставленную гарнитуром, в тяжком молчании съедал пищу и уходил на свое место в кресло, жег сигарету за сигаретой.
Евгению угнетала тишина. Убрав посуду, она всякий раз садилась тут же на стул, уткнувшись в передник, беззвучно плакала. Сначала долго, с обилием слез, затем все короче и с сухими глазами. Покормив сына грудью, уходила спать, долго лежала, прислушиваясь к действиям мужа без надежды на то, что он придет к ней в постель и согреет ее своим дыханием и лаской. Было невыносимо тяжело сознавать, что он не придет, а так же мучается за стенкой на жестком диване.
В крикливые вечера ей было легче, но она страшилась того, что муж однажды побьет ее, хотя не представляла своего Толю свирепым. Ей было легче от тех придирок Анатолия, какие он находил, и благодаря которым между ними шел диалог, в сущности, представляя собой жесткую ругань. Но как бы там ни было, а она могла ответить на его обвинения своим несогласием. И все же она до смерти не забудет тот вечер, когда он не на шутку сорвался.
— Вон полюбуйся, пацаны во дворе натянули сетку и гоняют мяч, — не говорил, а кричал Анатолий в коридоре, снимая обувь. — Васек наш, никогда этого не сможет сделать.
Подхлестнутая словами мужа, Евгения машинально глянула в окно и увидела играющую детвору, и комок обидных слез подкатился к горлу.
— Ну почему у нас не такой ребенок как у всех? Ты виновна в его уродстве!
Евгения остолбенела. Кастрюля с водой, которую она собиралась поставить на газ, выпала из ее рук, загремела о пол, вода растеклась по кухне. Гром кастрюли привел в ярость Анатолия, он, все более распаляясь, закричал:
— Вот видишь, какая ты дистрофичная, даже посуду в руках удержать не можешь, на ровном полу спотыкаешься, как худая кляча, а еще туда же — рожать!
Это был предел копившегося страха, отчаяния, горя в их несчастной семье, и, достигнув вершины терпения, лавина раздражения и злобы, опрокинув чашу любви, устремилась вперед, размывая слабую смычку еще остававшихся каких-то теплых чувств, скорее слабой жалости, и ничто былое уже не имело никакого значения, и те обязательства, данные влюбленными, не стоили теперь и песчинки — все уничтожило негодование, вызванное уродством сына.
Тогда она ему ничем не ответила. Ее захлестнула волна обид и грубости любимого ею человека. Но в следующий раз она стала защищаться.
— Неправда, я не раз была у врача и задавала ему вопросы о причинах нашего несчастья, — тихо, но твердо говорила Евгения. Она вообще не терпела крика, ругани, даже повышения тона ни в семье, ни на службе. — Мне сказали, что кровь у меня хорошая, все остальное — тоже. Была версия, что зачатие произошло в нетрезвом состоянии. Но ни ты, а я тем более, почти не выпиваем. Но когда все же мы понемногу выпивали, ты знаешь, я тебя не допускала к себе. Так что это отпадает. Я здорова, как космонавт.
— Я тем более здоров. Посмотри, какой я бугай. Мне двух женщин подавай, и я всю ночь с них не слезу.
— Может быть, у тебя кровь плохая?
— Глупости. Была бы плохая, то разве я смог быть с тобой и утром, и вечером, да еще днем в обеденный перерыв. Впрочем, свою полноценность я могу доказать. Через девять месяцев.
— Что ты задумал? — в страхе спросила Евгения. — Ты больше не любишь меня?
— Теперь это не имеет значения. Я хочу доказать, что не я виновен в уродстве нашего сына.
— Но я могу сделать то же самое.
Анатолий напрягся, сжал кулаки.
— Как! Ты пойдешь на панель при живом муже?
— Ты первый заговорил на эту тему, и упрекать можно только тебя.
— Ну, знаешь, я мужчина и мог бы тебе ничего не говорить, а завести любовницу и убедиться в своей полноценности.
— Мне все понятно, можешь не развивать свою мысль, — нервно сказала она.
Читать дальше