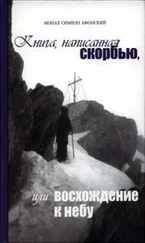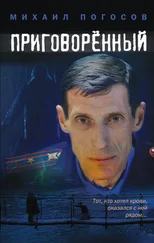Я сидел в кабинете, замученный до полусмерти и уставший, когда открылась дверь и вошел Слава. Окинув меня взглядом, он оценил мое состояние и понял, что ситуация дерьмовая. Тут же сделался серьезным и попросил оставить нас наедине на пять — десять минут для согласования позиции. Опера очень неохотно на это пошли, но все-таки уступили и вышли из кабинета.
— Как ты? Что с шеей? — В глазах тревога.
— Слава, мне пиздец, — шепчу я тихим подавленным голосом, — они меня всего вымотали, я не могу уже терпеть!
И я коротко рассказываю ему, что со мной вытворяли за последние сутки, как избивали, как я резал себе шею, чего от меня требуют, чего ждут. Я чувствовал, что выгляжу крайне жалко: усталый, с красными глазами, с перебинтованной шеей, весь в зеленке и крови, с медленной вялой речью, грязный, испуганный, с безразличием в глазах. Мне уже было все равно, что со мной будет. Наверное, схожее безразличие ощущали узники концлагерей: поведут их налево, в крематорий, или направо, на работу. Всё равно! Может, не в такой степени, может, не в такой глубокой безвыходности я находился, как люди в Аушвице, но кажется, что состояние душевного отчаяния было схоже. Это я уже понял потом, когда было время на анализ ситуации, читая Виктора Франкла и другие книжки о Холокосте.
Слава, выслушав меня, заговорил:
— Миха! Надо держаться! Если мы сейчас дадим показания, мы всё обосрем себе в суде. Там все подняты на уши, делается всё, чтобы вытащить вас! Все передают тебе привет и слова поддержки. Надо держаться, дружище! Крепись, осталось еще немного. На днях все должно решиться (и объясняет, что). Но сейчас показания давать нельзя, понимаешь?! На суде мы уже ничего не переиграем и не отменим этого протокола. По моей информации, у них нет ничего! Поэтому вас и ломают. Держись, Миха!
Все это было сказано очень твердо, уверенно, веско. И это были как раз те слова, в которых я нуждался! Это было то, что надо, тот необходимый глоток воздуха, который вернул меня к жизни! Слава просто пришел и спас меня! Я воодушевился словами его поддержки, его присутствием, у меня появились физические и душевные силы, я буквально воспрял духом! Это очень важный переломный момент в моей истории. Я находился на грани жизни, меня практически сломали. Меня через боль принуждали отказаться от себя, от друзей, от всего, во что я верил, чем жил. Но несколько слов товарища, друга, адвоката возродили меня! И я снова оказался в списке живых. Он просто вытащил меня на свет, дал уверенность и смысл всем моим страданиям, всей моей боли! Я понимал, что после отказа от дачи показаний мне будет пиздец! Я знал, я был просто уверен! Но зато теперь я знал, ради чего я буду терпеть и страдать, ради чего пойду на гибель. Ради того, что в меня верят. Ради того, что на меня рассчитывают и надеются. В конце концов — ради сплоченного единства мужской воли, духа и общей цели!
И я сказал: «Идем!»
Мы расположились в кабинете, где за черной допотопной печатной машинкой восседал с умным видом следователь Чайников. У входа стоял опер, еще один снаружи. Рядом со мной, достав ручку, бумагу и копирку, расположился Слава. За окном было темно. За окном царила уже белая осень, плавно переходящая в крепкую зиму.
И вот настал разоблачительный, кульминационный, а для меня трагичный момент. Чайников заправляет лист бумаги в машинку, впечатывает фабулу протокола допроса: время, место, участвующие лица и т. д. И задает вопрос: «Скажите, подозреваемый, что вы можете сказать об обстоятельствах убийства гражданина Телущенко 5 сентября 2003 года?» (Это еще одно дело, которое на меня усиленно вешали иркутские опера.)
И тут я им выдаю совсем не то, что они от меня ожидали, я говорю: «Я желаю воспользоваться пятьдесят первой статьей Конституции РФ и не давать показания против себя. Кроме того, я хочу заявить, что на протяжении двух суток я подвергался избиениям в здании УБОПа, меня избивали железной палкой, руками, ногами, пытали током сотрудники ОРЗУ (называю фамилии), заставляя признаться в преступлении. Чтобы остановить это издевательство, я порезал себе бритвочкой шею».
Они выпали в осадок! Надо было видеть их лица. У Чайникова изменился цвет лица, он побагровел от досады и злости и засопел через ноздри. Начал печатать. У опера зазвенел телефон. Когда он ответил, мне было слышно из трубки, что это звонило ожидающее в УБОПе начальство с расспросами о ходе допроса. Узнав, что я отказался давать показания, голос в трубке категорически сказал: «Потом сюда его сразу!»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу